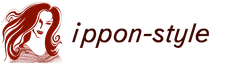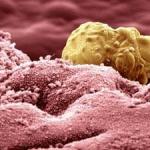Жил у меня гончий щенок. Е.Чарушин. Друзья. Влияние солнца и влажности
История появления его в городе осталась неизвестной. Он пришел весной откуда-то и стал жить. Он никому не надоедал, никому не навязывался и никому не подчинялся – он был свободен.
Говорили, что его бросили проезжавшие весной цыгане. Странные люди цыгане! Ранней весной они трогаются в путь. Одни едут на поездах, другие – на пароходах или плотах, третьи плетутся по дорогам в телегах, неприязненно посматривая на проносящиеся мимо автомашины. Люди с южной кровью, они забираются в самые глухие северные углы. Внезапно становятся табором под городом, несколько дней слоняются по базару, щупают вещи, торгуются, ходят по домам, гадают, ругаются, смеются – смуглые, красивые, с серьгами в ушах, в ярких одеждах. Но вот уходят они из города, исчезают так же внезапно, как и появились, и уже никогда не увидеть их здесь. Придут другие, но этих не будет. Мир широк, а они не любят приходить в места, где уже раз побывали.
Итак, многие были убеждены, что его бросили весной цыгане.
Другие говорили, что он приплыл на льдине в весеннее половодье. Он стоял, черный, среди бело-голубого крошева, один неподвижный среди общего движения. А наверху летели лебеди и кричали: «клинк-кланк!»
Люди всегда с волнением ждут лебедей. И когда они прилетают, когда на рассвете поднимаются с разливов со своим великим кличем «клинк-кланк!» – люди провожают их глазами, кровь начинает звенеть у них в сердце, и они знают тогда, что пришла весна.
Шурша и глухо лопаясь, шел по реке лед, кричали лебеди, а он стоял на льдине, поджав хвост, настороженный, неуверенный, внюхиваясь и вслушиваясь в то, что делалось кругом. Когда льдина подошла к берегу, он заволновался, неловко прыгнул, попал в воду, но быстро выбрался на берег и, отряхнувшись, скрылся среди штабелей леса.
Так или иначе, но, появившись весной, когда дни наполнены блеском солнца, звоном ручьев и запахом коры, он остался жить в городе.
О его прошлом можно только догадываться. Наверное, он родился где-нибудь под крыльцом, на соломе. Мать его, чистокровная сука из породы костромских гончих, низкая, с длинным телом, со вздувшимся животом, когда пришла пора, исчезла под крыльцом, чтобы совершить свое великое дело в тайне. Ее звали, она не откликалась и ничего не ела, вся сосредоточенная в себе, чувствуя, что вот-вот должно совершиться то, что важнее всего на свете, важнее даже охоты и людей, – ее властелинов и богов.

Он родился, как и все щенки, слепым, был тотчас облизан матерью и положен поближе к теплому животу, еще напряженному от родовых схваток. И пока он лежал, привыкая дышать, у него все прибавлялись братья и сестры. Они шевелились, кряхтели и пробовали скулить – такие же, как и он, дымчатые щенки с голыми животами и короткими дрожащими хвостиками. Скоро все кончилось, все нашли по соску и затихли, – раздавалось только сопение, чмоканье и тяжелое дыхание матери. Так началась их жизнь.
В свое время у всех щенят прорезались глаза, и они узнали с восторгом, что есть мир еще более великий, чем тот, в котором они жили до сих пор. У него тоже открылись глаза, но ему никогда не суждено было увидеть света. Он был слеп, бельма толстой серой пленкой закрывали его зрачки. Для него настала горькая и трудная жизнь. Она была бы даже ужасной, если бы он мог осознать свою слепоту. Но он не знал того, что слеп, ему не дано было знать. Он принимал жизнь такой, какой она досталась ему.
Как-то случилось, что его не утопили и не убили, что было бы, конечно, милосердием по отношению к беспомощному, ненужному людям щенку. Он остался жить и претерпел великие мытарства, которые раньше времени закалили и ожесточили его тело и душу.
У него не было хозяина, который дал бы ему кров, кормил бы его и заботился о нем, как о своем друге. Он стал бездомным псом-бродягой, угрюмым, неловким и недоверчивым, – мать, выкормив его, скоро потеряла к нему, как и к его братьям, всякий интерес. Он научился выть, как волк, так же длинно, мрачно и тоскливо. Он был грязен, часто болел, рылся на свалках возле столовых, получал пинки и ушаты грязной воды наравне с другими такими же бездомными и голодными собаками.
Он не мог быстро бегать, ноги, его крепкие ноги, в сущности, не были ему нужны. Все время ему казалось, что он бежит навстречу чему-то острому и жестокому. Когда он дрался с другими собаками – а дрался он множество раз на своем веку, – он не видел своих врагов, он кусал и бросался на шум дыхания, на рычание и визг, на шорох земли под лапами врагов и часто бросался и кусал впустую.
Неизвестно, какое имя дала ему мать при рождении, – ведь мать, даже и собака, всегда знает своих детей по именам. Для людей он не имел имени… Неизвестно также, остался бы он жить в городе, ушел бы или сдох где-нибудь в овраге, молясь в тоске своему собачьему богу. Но в судьбу его вмешался человек, и все переменилось.
В то лето я жил в маленьком северном городе. Город стоял на берегу реки. По реке плыли белые пароходы, грязно-бурые баржи, длинные плоты, широкоскулые карбасы, с запачканными черной смолой бортами. У берега стояла пристань, пахнувшая рогожей, канатом, сырой гнилью и воблой. На пристани этой редко кто сходил, разве только пригородные колхозники в базарный день да унылые командировочные в серых плащах, приезжавшие из области на лесозавод.
Вокруг города по низким пологим холмам раскинулись леса, могучие, нетронутые: лес для сплава рубили в верховьях реки. В лесах попадались большие луговины и глухие озера с огромными старыми соснами по берегам. Сосны все время тихонько шумели. Когда же с Ледовитого океана задувал прохладный влажный ветер, нагоняя тучи, сосны грозно гудели и роняли шишки, которые стукались о землю.
Я снял комнату на окраине, на верху старого дома. Хозяин мой, доктор, был вечно занятый, молчаливый человек. Раньше он жил с большой семьей. Но двух сыновей его убили на фронте, жена умерла, дочь уехала в Москву, доктор жил теперь один и лечил детей. Была у него одна странность: он любил петь. Тончайшим фальцетом он вытягивал всевозможные арии, сладостно замирая на высоких нотах. Внизу у него были три комнаты, но он редко заходил туда, обедал и спал на террасе, а в комнатах было сумрачно, пахло пылью, аптекой и старыми обоями.
Окно моей комнаты выходило в одичавший сад, заросший смородиной, малиной, лопухом и крапивой вдоль забора. По утрам за окном возились воробьи, тучами налетали дрозды клевать смородину, доктор не гонял их и ягоду не собирал. На забор иногда взлетали соседские куры с петухом. Петух громогласно пел, вытягивая кверху шею, дрожал хвостом и с любопытством смотрел в сад. Наконец он не выдерживал, слетал вниз, за ним слетали куры и поспешно начинали рыться возле смородиновых кустов. Еще в сад забредали коты и, затаясь возле лопухов, следили за воробьями.
Я жил в городе уже недели две, но все никак не мог привыкнуть к тихим улицам с деревянными тротуарами, с прораставшей между досок травой, к скрипучим ступеням лестницы, к редким гудкам пароходов по ночам.
Это был необычный город. Почти все лето стояли в нем белые ночи. Набережная и улицы его были негромки и задумчивы. По ночам возле домов раздавался отчетливый дробный стук – это шли редкие рабочие с ночной смены. Шаги и смех влюбленных всю ночь слышались спящим. Казалось, что у домов чуткие стены и что город, притаившись, вслушивается в шаги своих обитателей.
Ночью наш сад пах смородиной и росой, с террасы доносился тихий храп доктора. А на реке бубнил мотором катер и пел гнусавым голосом: ду-дуу…
Воспитывая гончего щенка, нужно считаться с тем, что гончая собака унаследовала от предков, живших на псарнях и работавших в стаях, немало такого, что в современных условиях неудобно, невыгодно и даже вредно. Несмотря на то, что уже целый ряд поколений отделяет современных гончих от тех собак, многие наши гонцы все ещё не ценят хозяина и готовы бежать в лес за любым человеком, повесившим на плечо ружьё. Это очень плохо потому, что в отсутствии настоящей привязанности к хозяину заключается главная причина бесконечных пропаж и краж гончих.
На псарнях немыслимо было привить гончей любовь и уважение к одному человеку - хозяину. Там эту роль хозяина играл доезжачий; он достигал, конечно, известного расположения со стороны собак, но от этого слишком далеко до той глубокой привязанности, которая так сильна у любой собаки, постоянно общающейся со своим хозяином.
Недоброе влияние стайных предков сказывается иногда и на плохой вязкости наших гончих.
Известно, что гончие прежних комплектных охот не имели права на настоящую вязкость; выгнав зверя из острова в поля, они должны были под угрозой кнута прекращать гон. Такие «остаточные» свойства гончей особенно живучи в условиях питомников охотничьих организаций, где гончие предназначены для коллективных охот и где в смягчённом виде повторяются старые псарни с их недостатками. Постоянно меняющиеся охотники и сплошь да рядом бестолковое поведение их иногда являются причиной порчи полаза, вязкости и мастерства общественных гончих и уж обязательно действуют на их чувство «бесхозяйности». Поэтому, если каждому гончатнику следует как можно более «сближаться» с гончей, то для егеря охотничьего общества это необходимо в ещё большей степени. Гончие должны резко выделять его из всей массы людей, с которыми им приходится иметь дело.
Приблизить к себе собаку - первая забота гончатника. Жизнь легавой проходит в постоянном и тесном общении с хозяином и привязанность к нему собаки закономерна и проста. Но для гончей ради её стойкости к холоду и общей выносливости неизбежно сарайное или вольерное содержание, поэтому она видит хозяина лишь когда он приносит ей корм, да в короткие часы нагонки и охоты.
Гончатнику нужно использовать любую возможность, чтобы собака больше видела его и приучалась считать своим другом и властелином. Поэтому владелец собаки должен лично почаще гулять с ней (а пока гончая ещё щенок, играть с ней), побольше пускать гончую в своё жильё. Здесь воспитанник быстро привыкнет отличать «своих» от «чужих», поймёт, что «можно» и чего «нельзя», а главное, у него зародится такая привязанность к хозяину, его семье, к дому, какой никогда не добьёшься при содержании собаки только в сарае.
Побои недопустимы при воспитании собаки, но есть один случай, где они уместны - при отучении щенка ласкаться к каждому встречному. Способ несложен, но верен. На прогулке встречается «чужой» (с которым у хозяина щенка всё заранее договорено). Он подманивает щенка, ласкает его, угощает вкусными вещами, а затем порет хорошим прутом. Перепуганный и обиженный ученик, конечно, бросается к хозяину, как к другу и защитнику. Двух-трёх таких уроков достаточно, чтобы навсегда отбить у собаки охоту приставать к посторонним людям.
Первый шаг в воспитании щенка - приучение к кличке. Клички даются щенкам после отнятия их от матери. Кличка усваивается без особых приёмов, если хозяин при даче корма всегда подзывает щенка по имени. Уже с двухмесячного возраста надо следить, чтобы щенки не гонялись за домашней птицей или скотом. За попытки ловить домашних животных щенка, если он не робок, следует обязательно наказать на месте преступления. Робких, мягких собак бить не следует, тут, кроме крайних случаев, достаточно окрика.
Такое баловство по глупости свойственно чуть не каждому щенку и обычно быстро ликвидируется простейшими мерами, но при недосмотре эта привычка может стать настоящим скотинничеством. Это страшный порок, и борьба с ним нужна в раннем возрасте, так как у взрослых собак он неискореним, если запущен. Толчком к скотинничеству у гончих подростков и даже у взрослых собак может послужить неудовлетворение законного охотничьего инстинкта если, например, нет зверя в местах охоты.
У меня был выжлец, который вздумал скотинничать на девятой осени. В один погожий сентябрьский день я повёл своего гонца в лес на тренировку-подготовку; на днях предстояло открытие охоты.
Зайца Трубач не мог найти в течение нескольких часов. Наконец он помкнул и, как говорят гончатники, «зарко погнал по зрячему». Чтобы перехватить гон и перевидеть гонного зверя, я выбежал на неширокую лощинку и почти в ту же минуту увидел... как выжлец гнал четырёх овец, отбив их от пасщегося в лесу стада.
Не обращая внимания на мой крик, Трубач врезался в кучку «гонных зверей» и тут же повернул за барашком, бросившимся в сторону. На глазах у меня он настиг добычу и не хуже заправского волка, подорвав барашка за горло, перекувырнул его. Я подбежал, схватил разбойника, надел на него ошейник и, привязав к берёзе, отдул хорошей хворостиной. Оправившийся барашек, конечно, убежал. Взяв выжлеца на сворку и удалившись от места происшествия, я снова пустил его в полаз. Вскоре послышалась горячая помычка. Я пустился перехватывать зверя и... снова увидел Трубача, гнавшего крупную овцу. Она оказалась смелой, не в свою породу, и не успел я поймать выжлеца, как овца остановилась и заняла оборонительно-угрожающую позицию. Тут я схватил гонца и, держа за ошейник и за гон, боком подставил его овце. Она отступила на шаг-два для разбега, размахнулась и сильно стукнула преследователя своим безрогим лбом, ещё, ещё и ещё... Больше никогда не появлялось у Трубача желания гонять овец.
Настоящий скотинник - это гончая, которой как-то пришлось один или несколько раз безнаказанно расправиться на охоте или в нагонке с овцой или иной подобной «добычей». Я говорю «безнаказанно», потому что побои, полученные собакой от охотника через некоторое время после обнаружения преступления, уже не воспринимаются собакой как наказание за данный проступок. Да и вообще побои - не метод воспитания. Окрики, вкусопоощрения и другие средства нормальной дрессировки против скотинника бессильны, зверская страсть его неизмеримо сильнее. Если гончая дошла до настоящего скотинничества, она негодна для охоты по чернотропу, пока стада в поле. Для таких крайних случаев, когда собаку хоть стреляй, практикой выработан верный, хотя и суровый способ. Суть его в том, чтобы преследуемое животное само причинило скотиннику неприятные переживания и тем внушило бы ему страх к себе.
Приготовив в ближнем поле или перелеске овцу, наводят на неё как бы случайно скотинника со своркой на ошейнике (чтобы легче ловить), и когда он нападёт на животное, быстро отнимают овцу. Затем, связав собаке ноги и надев на неё намордник, кладут её на землю. Далее, поймав овцу, водят её через скотинника так, чтобы она топтала, а хорошо, если бы и боднула врага. Нужно, чтобы собаке было и больно и страшно от своего бессилия, но необходимо оберегать её от повреждений (особенно глаза). Нечто подобное можно проделать и с курицей, если продеть палку в шею задавленной щенком птицы, чтобы создалось впечатление, будто она сама клюет связанного озорника. Такой способ успешно применяется охотниками, не раз проверен и мною. Находит он поддержку и у работников науки.
С самого раннего возраста щенка нужно приучать к дисциплине у корма. Следует добиться, чтобы он послушно отходил от корма по команде «Отрыщь!». Этой же командой можно будет пользоваться и на охоте, отбирая у гончей убитого зверя или подранка. Во всё время обучения щенка нужно действовать лаской, прибегая к угрозам или побоям лишь в крайнем случае и обязательно считаясь с характером собаки.
Характеры у собак очень разнообразные. Самые лёгкие для обучения - это незлобные и смелые. Робость, которая в некоторых линиях гончих стала наследственной, нередко затрудняет дрессировку, так как слишком боязливый щенок из-за постоянного страха становится непонятливым даже при спокойном, но настойчивом требовании охотника. Часто встречаются собаки гордые, самолюбивые, которых резкое принуждение раздражает и обижает. От таких собак послушания можно добиться постоянным ровным и мягким обращением; обычно именно таких гордецов легче всего обучить исполнению любых требований, стоит только к ним найти правильный подход и добиться их привязанности. Среди гончих обычны злобные, грубые собаки, однако обращение с каждой из них не может быть одинаковым. Если для некоторых необходимо и полезно прямое насилие, то от других при всей их злобности большего можно добиться только лаской.
Охотник должен знать характер собаки и считаться с ним. Это нужно помнить не только при воспитании щенка, но и вообще при обращении с собакой. Охотник должен по отношению к своей собаке держаться твёрдо, но всегда спокойно и выдержанно, добиваясь безукоризненного выполнения собакой своих требований. Нельзя требовать от собаки слишком много в связи с тем, что как бы понятлива ни была собака, она не может действовать по-настоящему сознательно.
Казалось бы, оседлые летучие мыши находятся в более выгодном положении чем перелетные, которых поджидают в дальних странствиях множество опасностей. Недаром перелетные мыши приносят в год по два детеныша, а большинство оседлых по одному: природа заботится, чтобы численндсть вида не уменьшалась.
Однако и у зимующих на родине зверьков много трудностей. В особо морозные и затяжные зимы немало их гибнет от холода и истощения. В последние годы настоящим бедствием для крылатых зверьков стали туристы - любители пещер и других подземных сооружений. Они беспокоят, разгоняют, ловят животных, иногда даже жгут их факелами и бьют камнями. Еще недавно в некоторых наших пещерах зимовали сотни летучих мышей, ныне они совершенно исчезли.
Если мы все вместе не возьмемся за охрану летучих мышей, можем вовсе лишиться этих полезных и интересных животных. Оберегайте места обитания рукокрылых. Не беспокойте зверьков, не трогайте спящих животных. Это может привести к их гибели. Лучше вовсе не ходите туда, где летучие мыши проводят спячку. Любителям держать зверьков дома следует знать, что сохранить летучую мышь в неволе очень трудно.
Многое в жизни рукокрылых еще не известно науке, и вы можете помочь разгадке тайн летучих мышей. Если вы обнаружите скопления зверьков в зимнее или летнее время или будете наблюдать их на пролете, сообщайте свои наблюдения по адресу: Ленинград, 199164, Университетская набережная, 1, Зоологический институт АН СССР. Стрелкову П. П. Не забудьте точно указать имя, фамилию и обратный адрес.
Занимательную историю о черепахе вам поведает Борис Федорович Федоров.
Черепаха на замне
Панцирь черепах состоит из двух щитов: брюшного и спинного. Щиты - сросшиеся костные пластинки, с которыми сращены и остальные кости скелета: позвоночник, ребра, ключицы. Костные пластинки - особые образования, ничего общего с остальными костями не имеющие. Они образуются у эмбрионов черепах из кожи. Сверху костный щит покрыт симметрично расположенными
роговыми щитками. Швы костных и роговых пластинок не совпадают, и это усиливает прочность панциря.
Спереди и сзади между щитами панциря находятся отверстия, через которые продеты шея и лапы черепахи. В минуту опасности животное втягивает их. При этом у одних шея как бы накручивается на невидимый барабан, и таким образом голова затягивается под щит; другие изгибают ее вправо или влево и прячут голову в подмышечную впадину. Некоторые черепахи, забравшись под панцирь, умеют «закрывать за собой двери». У замыкающих черепах верхний и нижний щиты соединены между собой подвижно; сближая их, животные закрывают входные отверстия. Коробчатые так плотно задраивают люки своей брони, что в щель между верхним и нижним щитами с трудом удается просунуть даже лезвие перочинного ножа. Нижний щит у шарнирных и коробчатых черепах разделен на две самостоятельные части поперечной связкой. При необходимости мышцы подтягивают обе половины вверх. У складных черепах подвижна только передняя часть нижнего щита, а у черепахи кинике - задняя треть верхнего щита.
Кто не знает лису? Мы встречаемся с ней с самого детства. Сначала в сказках, баснях, позже в научно-популярной литературе. Эта красавица - хитрая, коварная, скрытная. И не каждому удается понаблюдать за ней. Немало в поведении лисы и загадочного, неизвестного человеку.
О загадках лисьей жизни рассказывает кандидат биологических наук Геннадий Андреевич Лошкарев.
Лиса, заяц и пес Задор
Жил у меня как-то гончий щенок Задор. Пришло время обучать его делу. Гончая собака за зверем по следу с лаем бежит - гоняет его. Надумал я научить Задора лис гонять. Знал, что
Однажды лесник расчищал в лесу просеку и высмотрел лисью нору. Он раскопал нору и нашел там одного маленького лисенка. Видно, лисица-мать успела остальных перетащить в другое место.
А у этого лесника уже жил дома щенок. Гончей породы. Тоже еще совсем маленький. Щенку было от роду один месяц. Вот и стали лисенок и щенок расти вместе. И спят они рядышком, и играют вместе.
Очень занятно они играли! Лисенок лазал и прыгал, как настоящая кошка. Прыгнет на лавку, а с лавки на стол, хвост задерет трубой кверху и смотрит вниз. А щенок полезет на лавку - хлоп! - и упадет. Лает, бегает вокруг стола целый час. А потом лисенок спрыгнет вниз, и оба лягут спать. Поспят-поспят, отдохнут и снова начнут гоняться друг за другом.
Щенка звали Огарок, потому что он был весь рыжий, будто огонь. А лисенка лесник назвал Васькой, как кота: он лаял тоненьким голоском - будто мяукал.
Все лето щенок и лисенок прожили вместе, и к осени оба выросли. Щенок стал заправским гончаром, а лисенок оделся в густую шубу. Лесник посадил лисенка на цепь, чтобы он не убежал в лес. "Подержу, - думает, - его на цепи до середины зимы, а потом продам его в город на шкурку".
Ему жалко было самому стрелять лису, уж очень она была ласковая. А с гончим Огарком лесник ходил на охоту и стрелял зайцев.
Вот однажды вышел лесник утром покормить лису. Глядит, а у лисьей будки одна цепь и рваный ошейник. Убежала лиса. "Ну, - подумал лесник, - теперь мне не жалко тебя застрелить. Видно, не бывать тебе ручным зверем. Дикарь ты, дикарь. Найду в лесу и застрелю как дикую".
Вызвал он своего Огарка, снял с полки ружье.
Ищи, - говорит, - Огарко. Ищи своего приятеля. - И показал следы на снегу.
Огарок залаял и побежал по следу. Гонит, лает, по следу идет. И ушел он далеко-далеко в лес, еле его слышно. Вот он и совсем замолк. А вот снова сюда идет: лай все ближе, ближе. Лесник спрятался за елку на опушке, взвел курки на ружье.
И вот видит: выбежали из лесу разом двое. Лиса и собака. Собака лает и повизгивает. И бегут они по белому снегу рядышком. Как настоящие приятели - плечо к плечу. Вместе кочки перескакивают, друг на друга смотрят и будто улыбаются. Ну, как тут стрелять. Ведь собаку убьешь!
Увидали звери лесника, подбежали. Васька прыгнул к нему на плечи, а пес встал на задние лапы, уперся в грудь хозяину и хамкает: ловит шутя лисий хвост.
Эй вы, чертенята! - сказал лесник, спустил курки на ружье и вернулся домой.
И так жила лиса у него в избе всю зиму - не на цепи, а просто так. А весной стала уходить в лес мышей ловить. Ловила-ловила да и осталась в лесу совсем.
А гончий Огарок с тех пор не гонит лисиц. Видно, все лисицы ему стали друзья.
Смотрите также: "Почему Тюпу прозвали Тюпой". "Тюпа маленький". "Почему Тюпа не ловит птиц". Чарушин Е.И.