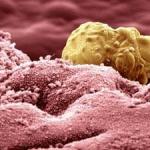Инцест сестренки в ванной. Инцест сестренки в ванной Глава VIII. Решение
чойнбойе! дБООБС ТБУУЩМЛБ ТБУУЮЙФБОБ ОБ ЧЪТПУМХА БХДЙФПТЙА! тБУУЛБЪЩ, РХВМЙЛХЕНЩЕ Ч ТБУУЩМЛЕ, НПЗХФ УПДЕТЦБФШ ПРЙУБОЙЕ УГЕО УЕЛУБ, Б ФБЛЦЕ ОЕГЕОЪХТОЩЕ ЧЩТБЦЕОЙС. рПЬФПНХ, ЕУМЙ чБН ОЕ ЙУРПМОЙМПУШ 18 МЕФ, ЙМЙ чЩ ОЕ РТЙЕНМЙФЕ РП ФЕН ЙМЙ ЙОЩН РТЙЮЙОБН ПРЙУБОЙЕ УГЕО УЕЛУБ, ФП ХВЕДЙФЕМШОП РТПУЙН ЧПЪДЕТЦБФШУС ПФ ЮФЕОЙС ТБУУЩМЛЙ! нБТЙОЛБ
лБФЕЗПТЙС: йОГЕУФ
бЧФПТ: н. уЕТЗЕЕЧ
ФПМЙЛ УЙМШОП ВПСМУС РТЙИПДБ ТПДЙФЕМЕК. пО ДХНБМ П ФПН, ЮФП ВХДЕФ, ЕУМЙ нБТЙОЛБ ТЕЫЙФ ТБУУЛБЪБФШ ТПДЙФЕМСН П УМХЮЙЧЫЕНУС.
уЕЗПДОС, РПЙЗТБЧ У ТЕВСФБНЙ РПУМЕ ЫЛПМЩ Ч ЖХФВПМ Й, РТЙДС ДПНПК, фПМЙЛ ТЕЫЙМ РПУНПФТЕФШ ФЕМЕЧЙЪПТ, ОП ОЕ ОБЫЕМ РХМШФ ХРТБЧМЕОЙС. фПЗДБ Ч РПЙУЛБИ РХМШФБ ПО ЪБЫЕМ Ч УРБМШОА УЕУФТЩ. уЕУФТБ РТЙЫМБ ЙЪ ЫЛПМЩ ТБОШЫЕ Й, ЮЙФБС ЛОЙЗХ, ЪБУОХМБ. пОБ МЕЦБМБ ОБ ЛТПЧБФЙ, ПДЕФБС Ч МЕЗЛЙК ИБМБФЙЛ. рПМЩ ИБМБФЙЛБ ТБЪПЫМЙУШ Ч УФПТПОЩ. фПМЙЛ РПДПЫЕМ ВМЙЦЕ. пДОБ ОПЗБ нБТЙОЛЙ ВЩМБ УПЗОХФБ Ч ЛПМЕОЕ Й, ЮЕТЕЪ ОЕРМПФОП РТЙМЕЗБАЭЙЕ Л ФЕМХ ФТХУЙЛЙ, фПМЙЛ ХЧЙДЕМ ЮБУФШ ЕЕ ЛЙУЛЙ.
фПМЙЛ Й нБТЙОЛБ ВЩМЙ РПЗПДЛЙ. еНХ ВЩМП 15, Б нБТЙОЛЕ 14. лПЗДБ ПОЙ ВЩМЙ НБМЕОШЛЙЕ, фПМЙЛ ЧЙДЕМ ЙОПЗДБ ЕЕ ЗПМХА, ОП ФПЗДБ ЬФП ВЩМП ЕНХ ОЕ УМЙЫЛПН ЙОФЕТЕУОП.
рПЪЦЕ нБТЙОЛБ УФБМБ УФЕУОСФШУС РПДТПУЫЕЗП ВТБФБ Й, Ч УЧПЙ 15 МЕФ, УЙМШОП УЕЛУХБМШОП ПЪБВПФЙЧЫЙУШ, ЕНХ ОЙЛБЛ ОЕ ХДБЧБМПУШ РПУНПФТЕФШ ОБ ЗПМПЕ ЦЕОУЛПЕ ФЕМП. пО РТЙУЕМ ОБД УРСЭЕК УЕУФТПК Й ПЮЕОШ ПУФПТПЦОП ПФПДЧЙОХМ Ч УФПТПОХ ОЙЦОАА ЮБУФШ ФТХУЙЛПЧ. фЕРЕТШ фПМЙЛ ЧЙДЕМ ЧУЕ, ЮФП ДП ЬФПЗП УЛТЩЧБМЙ ФТХУЩ. мПВПЛ нБТЙОЛЙ ВЩМ РПЛТЩФ МЕЗЛЙН РХЫЛПН УЧЕФМЩИ ЧПМПУ, Б ДБМШЫЕ ЫМЙ ДЧЕ РМПФОП РТЙМЕЗБАЭЙЕ ДТХЗ Л ДТХЗХ УЛМБДЛЙ УТБНОЩИ ЗХВПЛ.
дЧБ НЕУСГБ ОБЪБД ДТХЗ чЙФШЛБ РПЛБЪЩЧБМ фПМЙЛХ РПТОПЗТБЖЙЮЕУЛЙК ЦХТОБМ, Ч ЛПФПТПН ДЧЕ ДЕЧЙГЩ Ч ТБЪОЩИ РПЪБИ ФТПЗБМЙ, МЙЪБМЙ Й ЪБУПЧЩЧБМЙ Ч УЧПЙ ЧМБЗБМЙЭБ ЙУЛХУУФЧЕООЩЕ ЮМЕОЩ. фТПЗБМЙ ПОЙ ДТХЗ Х ДТХЗБ ФПТЮБЭЙК ЧОЙЪХ МПВЛБ ВХЗПТПЛ. «ьФП ЛМЙФПТ!» БЧФПТЙФЕФОП ПВЯСУОЙМ чЙФШЛБ. «пО Х ДЕЧПЛ, ЛБЛ Х ОБУ ЪБМХРБ. уБНПЕ ЮХЧУФЧЙФЕМШОПЕ НЕУФП!» х нБТЙОЛЙ ЛМЙФПТБ ЧЙДОП ОЕ ВЩМП.
пУНЕМЕЧ, фПМЙЛ ПУФПТПЦОП, ЕМЕ ЛБУБСУШ, РТПЧЕМ РБМШГБНЙ РП МПВЛХ УЕУФТЩ. чПМПУЙЛЙ ВЩМЙ ПЮЕОШ НСЗЛЙНЙ. уЕУФТБ РТПДПМЦБМБ УРБФШ. фПЗДБ ПО ПДОЙН РБМШГЕН РТПЧЕМ РП ЗХВЛБН УОЙЪХ ЧЧЕТИ Й, ЧЧЕТИХ ЗХВПЛ, Ч ФПН НЕУФЕ, ЗДЕ ПОЙ УПЕДЙОСМЙУШ ЧНЕУФЕ, РБМЕГ ПЭХФЙМ НБМЕОШЛЙК ВХЗПТПЛ. «лМЙФПТ!» - ДПЫМП ДП ОЕЗП. лТХЗПЧЩНЙ ДЧЙЦЕОЙСНЙ РБМШГБ, ПО УФБМ НБУУЙТПЧБФШ ВХЗПТПЛ. юЕТЕЪ ОЕЛПФПТПЕ ЧТЕНС ВХЗПТПЛ ПЭХФЙНП РПФЧЕТДЕМ Й УФБМ ВПМШЫЕ. фПМЙЛ ЪБНЕФЙМ, ЮФП ЗХВЛЙ ЛЙУЛЙ ОБВХИМЙ Й, ХЧЕМЙЮЙЧЫЙУШ Ч ТБЪНЕТЕ, УМЕЗЛБ ТБЪПЫМЙУШ.
уЕУФТБ УФБМБ ДЩЫБФШ ЗМХВЦЕ. й ФХФ фПМЙЛ ЧУЕ ЙУРПТФЙМ. еЗП ДЕТОХМП РПРТПВПЧБФШ ЧЧЕУФЙ РБМЕГ ЧОХФТШ ЛЙУЛЙ. лПЗДБ РБМЕГ ЧПЫЕМ НЕЦДХ ЗХВПЛ ОБ ФТЕФШ ДМЙОЩ, нБТЙОЛБ ДЕТОХМБУШ Й РТПУОХМБУШ.
- фЩ ЮФП ФЧПТЙЫШ!? фЩ ЦЕ ФБЛ ГЕМЛХ НОЕ УМПНБЕЫШ! чУЕ НБНЕ ТБУУЛБЦХ! рПЫЕМ ЧПО!
фЕРЕТШ фПМЙЛ УП УФТБИПН ПЦЙДБМ РТЙИПДБ ТПДЙФЕМЕК. пО ДХНБМ П ФПН, ЮФП, ЕУМЙ УЕУФТБ ТБУУЛБЦЕФ НБФЕТЙ П РТПЙЪПЫЕДЫЕН, ПФЕГ ЕЗП ХВШЕФ.
уЙДС Ч УЧПЕК ЛПНОБФЕ, ПО ХУМЩЫБМ, ЛБЛ Ч ДЧЕТЙ РПЧПТБЮЙЧБЕФУС ЛМАЮ. ьФП РТЙЫМБ У ТБВПФЩ НБФШ. рТПЫМП РПМЮБУБ. нБФШ УРПЛПКОП ЗПФПЧЙМБ ХЦЙО. «оЕ ТБУУЛБЪБМБ!» - ДПЫМП ДП ОЕЗП.
оБ УМЕДХАЭЙК ДЕОШ, РТЙДС ЙЪ ЫЛПМЩ, ПО ЪБЫЕМ Ч ЛПНОБФХ УЕУФТЩ.
- нБТЙО! рТПУФЙ НЕОС! с ВПМШЫЕ ОЕ ВХДХ!
- фПМЙЛ! фЩ ЦЕ НПК ВТБФ Й ФБЛПЕ ФЧПТЙЫШ!
- оЕ УНПЗ ХДЕТЦБФШУС. пЮЕОШ ИПФЕМПУШ РПФТПЗБФШ.
- оХ Й ФТПЗБМ ВЩ УБН УЕВС! нБМП МЙ ЮФП С ИПЮХ! с ЦЕ ФЕВС ОЕ ФТПЗБА!
фПМЙЛ РПОХТП РПВТЕМ Ч УЧПА ЛПНОБФХ. юЕТЕЪ ОЕЛПФПТПЕ ЧТЕНС ПФЛТЩМБУШ ДЧЕТШ Й Ч ЕЗП ЛПНОБФХ ЧПЫМБ нБТЙОЛБ.
- фЕВЕ ЮФП, ПЮЕОШ ИПЮЕФУС РПУНПФТЕФШ ОБ ЦЕОЭЙОХ? - УРТПУЙМБ ПОБ.
- иПЮЕФУС!
- фПМЙЛ! с ВЩ ФЕВЕ РПЛБЪБМБ, ОП ЧЕДШ ЬФП РМПИП. нЩ ЦЕ ТПДОЩЕ ВТБФ Й УЕУФТБ.
- нЩ ВЩ ОЙЮЕЗП ФБЛПЗП ОЕ УФБМЙ ДЕМБФШ. рТПУФП РПУНПФТЕМЙ ВЩ, ОХ…РПФТПЗБМЙ Й ЧУЕ!
- иПТПЫП! оП ФЩ НОЕ ДПМЦЕО РППВЕЭБФШ, ЮФП ОЕ ВХДЕЫШ ДЕМБФШ ФПЗП, ЮФП НОЕ ВЩ ОЕ РПОТБЧЙМПУШ Й ФПЦЕ РПЛБЦЕЫШ НОЕ, ЮФП Х ФЕВС ЧОЙЪХ.
- пВЕЭБА!
- фПЗДБ РПЛБЪЩЧБК!
- фЕВЕ ФПЦЕ ЙОФЕТЕУОП?
- лПОЕЮОП. с ЦЕ ЦЙЧПК ЮЕМПЧЕЛ.
тБЪДЕЧБФШУС РЕТЕД УПВУФЧЕООПК УЕУФТПК ВЩМП ОЕХДПВОП, ОП ПО УОСМ У УЕВС ЧОБЮБМЕ ЖХФВПМЛХ, Б ЪБФЕН УРПТФЙЧОЩЕ ЫФБОЩ Й ФТХУЩ. юМЕО фПМЙЛБ УФПСМ ЛПМПН.
нБТЙОЛБ РТЙУЕМБ ОБ ЛТПЧБФШ Й ПУФПТПЦОП РТЙЛПУОХМБУШ МБДПОША Л ЕЗП НПЫПОЛЕ.
- ьФП СКГБ?
- дБ.
- б ФЕВЕ РТЙСФОП, ЛПЗДБ Й ЙИ ФТПЗБА?
- дБ.
пОБ ПИЧБФЙМБ МБДПОША ЮМЕО Й ПЗПМЙМБ ЗПМПЧЛХ. оПЗЙ фПМЙЛБ УФБМЙ ДТПЦБФШ.
- ьФП ЪБМХРБ?
- дБ.
нБТЙОЛБ УФБМБ ТЙФНЙЮОП ДЧЙЗБФШ ТХЛПК, ПЗПМСС ЗПМПЧЛХ ЮМЕОБ. еЕ ТХЛБ ДПУФБЧМСМБ ВТБФХ ОБУФПМШЛП РТЙСФОЩЕ ПЭХЭЕОЙС, ЮФП ПЮЕОШ ВЩУФТП фПМЙЛ РПЮХЧУФЧПЧБМ РТЙВМЙЦБЧЫХАУС ЧПМОХ ПТЗБЪНБ. лПЗДБ ПО УБН Ч ЧБООПК ЙМЙ ФХБМЕФЕ ЪБОЙНБМУС ПОБОЙЪНПН, ПТЗБЪН ОЕ РТЙИПДЙМ ФБЛ ВЩУФТП.
- нБТЙО! с ФБЛ ЛПОЮХ!
рПУМЕ ЬФЙИ УМПЧ, УЕУФТБ, ЧНЕУФП ФПЗП, ЮФПВЩ РЕТЕУФБФШ, ХДЧПЙМБ ХУЙМЙС, ОП ЮМЕО фПМЙЛБ ОБРТБЧЙМБ Ч УФПТПОХ, ЮФПВЩ ПО ОЕ ЪБВТЩЪЗБМ ЕЕ УРЕТНПК. фЕМП фПМЙЛБ УФБМБ ВЙФШ УХДПТПЗБ ПТЗБЪНБ, Б УЕУФТБ, ОЕ РЕТЕУФБЧБС ДТПЮЙФШ ЕЗП, ЦБДОЩНЙ ЗМБЪБНЙ УНПФТЕМБ, ЛБЛ ЙЪ ЮМЕОБ ФХЗЙНЙ УФТХКЛБНЙ ВТЩЪЗБЕФ УРЕТНБ.
- фЩ ЛПОЮЙМ?
- дБ. вПМШЫЕ ОЕ ОБДП.
пОЙ РТЙУЕМЙ ОБ ЛТПЧБФШ.
- фЕРЕТШ НПЦЕЫШ ФТПЗБФШ НЕОС. фПМШЛП ЧОХФТШ ОЕ МЕЪШ!
фПМЙЛ РПЧБМЙМ УЕУФТХ ОБ ЛТПЧБФШ Й ТБЪДЧЙОХМ ЕК ОПЗЙ. нБТЙОЛБ ВЩМБ ВЕЪ ФТХУПЧ, Й ЕНХ ИПТПЫП ВЩМП ЧЙДОП ЕЕ ЛЙУЛХ. пОБ ХЦЕ ВЩМБ ОБВХИЫЕК Й ЙЪ ОЕЕ УПЮЙМБУШ ЧМБЗБ. чЧЕТИХ ЗХВПЛ ВЩМБ ЧЙДОБ ЗПТПЫЙОБ ЛМЙФПТБ.
- лБЛ ДЕМБФШ, ЮФПВЩ ФЕВЕ ВЩМП РТЙСФОП?
- дБЧБК С ФЕВЕ ВХДХ ЗПЧПТЙФШ, ЮФП ОБДП, Б ФЩ ВХДЕЫШ ДЕМБФШ?
- дБЧБК!
- рТПЧЕДЙ МБДПОСНЙ РП ЗТХДЛБН
фПМЙЛ УФБМ ДПВТПУПЧЕУФОП ДЕМБФШ ЧУЕ, П ЮЕН РТПУЙМБ УЕУФТБ.
- чПЪШНЙУШ РБМШЮЙЛБНЙ ЪБ УПУЛЙ Й УМЕЗЛБ РПЭЙРБК ЙИ. рПГЕМХК УПУПЛ…. ОЕУЙМШОП ЧУПУЙ ЕЗП Ч ТПФ… ФЕРЕТШ РПЗМБДШ ЗХВЛЙ ЧОЙЪХ… РПУЙМШОЕЕ…ЕЭЕ… уНПЮЙ РБМШЮЙЛ УНБЪЛПК, ЛПФПТБС ЧЩДЕМСЕФУС ЙЪ ЧМБЗБМЙЭБ Й ФЙИПОШЛП ФТЙ ЙН ЛМЙФПТ…ФБЛ…
уЕУФТБ ВЩМБ УЙМШОП ЧПЪВХЦДЕОБ. пОБ ЗТПНЛП Й РТЕТЩЧЙУФП ДЩЫБМБ. мЙГП ЕЕ РПТПЪПЧЕМП. фЕМП ДТПЦБМП Ч НБОДТБЦЕ. чЪЗМСД ЪБФХНБОЙМУС.
- рПУЙМШОЕЕ…РБМШЮЙЛ УНБЪЩЧБК…ФТЙ….
пО ВПСМУС УДЕМБФШ ЕК ВПМШОП, РПЬФПНХ ЕМЕ ЛБУБМУС ЛМЙФПТБ РБМШГЕН. нБТЙОЛБ ЧЪСМБ УЧПЕК ТХЛПК РБМЕГ фПМЙЛБ, ЛПФПТЩН ПО ЗМБДЙМ ЕЕ ЛМЙФПТ, Й ОБДБЧЙМБ ОБ ЛМЙФПТ УЙМШОЕЕ, РПЛБЪЩЧБС У ЛБЛПК УЙМПК ОХЦОП ОБДБЧМЙЧБФШ.
- иПТПЫП… ФЕРЕТШ РПВЩУФТЕЕ… ЕЭЕ ВЩУФТЕЕ… фПМЙЛ!… фПМЙЛ…. С УЕКЮБУ ЛПОЮХ! б-Б-Б-Б-Б-Б! - ЪБЗПМПУЙМБ ПОБ, ЙЪЧЙЧБСУШ ОБ ЛТПЧБФЙ Й МПЧС РБМЕГ ВТБФБ УЧПЙН ЛМЙФПТПН.
уЕУФТБ ПВЕУУЙМЕОП МЕЦБМБ ОБ ЛТПЧБФЙ, ЪБЛТЩЧ ЗМБЪБ, Й ЮБУФП Й ЫХНОП ДЩЫБМБ.
- фПМЙЛ! чУЕ-ФБЛЙ НЩ РМПИП РПУФХРБЕН. оЕ ДПМЦОЩ ВТБФ У УЕУФТПК ЪБОЙНБФШУС УЕЛУПН. дБЧБК ВПМШЫЕ ОЕ ВХДЕН ФБЛ ДЕМБФШ! с МХЮЫЕ ЪБЧФТБ РТЙЧЕДХ ФЕВЕ УЧПА РПДТХЗХ мБТЙУЛХ. пОБ ДБЧОП ХЦЕ ОЕ ГЕМЛБ Й ИПЮЕФ, ЮФПВЩ ФЩ ЕЕ ФТБИОХМ.
- б РПЮЕНХ ПОБ ПВ ЬФПН ОЕ УЛБЪБМБ НОЕ?
- фПМЙЛ! фЩ ЮФП, ЗМХРЩК? лБЛБС ДЕЧЮПОЛБ УЛБЦЕФ ПВ ЬФПН РБТОА?
оБ УМЕДХАЭЙК ДЕОШ, фПМЙЛ РПЙНЕМ РТЙЧЕДЕООХА нБТЙОЛПК мБТЙУЛХ Й ВЩМ ВЕЪХНОП УЮБУФМЙЧ. у УЕУФТПК ПОЙ Ч РПУМЕДХАЭЙЕ ЗПДЩ ФПМШЛП ПДЙО ТБЪ ЪБОЙНБМЙУШ УЕЛУПН, ДБ Й ФП ЧУЕ РТПЙЪПЫМП ЛБЛ-ФП УРПОФБООП, ЛПЗДБ ЙН ПВПЙН ПЮЕОШ ИПФЕМПУШ.
рПЪДОЙК ЧЕЮЕТ
лБФЕЗПТЙС:
ьТПФЙЛБ
бЧФПТ:
бМЕЛУБОДТ
вЩМ ХЦЕ РПЪДОЙК ЧЕЮЕТ, Й ЧЕУШ ДПН РПЗТХЪЙМУС Ч ФЙЫЙОХ УОБ.
пО ДПМЗП МЕЦБМ ОБ ЛХЫЕФЛЕ, ТБЪНЩЫМСС П УЧПЕК ЦЙЪОЙ Й ДХНБС П ДЕЧЮПОЛЕ, ЮФП ЦЙМБ Ч ЬФПН ДПНЕ. уНПФТС Ч ФЕНОЩК РПФПМПЛ ЛПНОБФЩ, ПО РПОСМ, ЮФП УП ЧУЕНЙ ЬФЙНЙ НЩУМСНЙ ПО ДПМЗП ОЕ ХУОЕФ Й ЮФПВЩ ПФЧМЕЮШУС, ОБЛЙОХМ ИБМБФ Й ПФРТБЧЙМУС ОБ ЛХИОА, ЪБЧБТЙФШ УЕВЕ ЛПЖЕ. чЛМАЮЙЧ ОЕВПМШЫПК ФПТЫЕТ, УФПСЭЙК Ч ХЗМХ, ПО ХЧЙДЕМ РХМШФ ПФ ФЕМЕЧЙЪПТБ, ВЕУРТЙЪПТОП ЧБМСЧЫЙКУС РПУЕТЕДЙОЕ ЛХИПООПЗП УФПМБ. пО ЪБЛТЩМ ЛХИПООХА ДЧЕТШ Й ЧЛМАЮЙМ ФЕМЕЧЙЪПТ.
- иПФШ ЛБЛПЕ-ОЙВХДШ ЛЙОП ЙДЕФ ЪБ РПМОПЮШ? - РПДХНБМ ПО.
ъБМЙЧ Ч ЛПЖЕЧБТЛХ ЧПДЩ, ПО ХУЕМУС ОБ ЛХИПООЩК ДЙЧБОЮЙЛ Й РТЙОСМУС ЭЕМЛБФШ РП ЛБОБМБН.
оБЛПОЕГ ПО ОБЫЕМ ЛБЛПК-ФП ЖЙМШН, ОБЮБМП ЛПФПТПЗП ВЩМП ХЦЕ ДБЧОП, Й РТЙОСМУС УПУТЕДПФПЮЕООП ЧОЙЛБФШ Ч УАЦЕФ. лПЖЕЧБТЛБ ИТАЛОХМБ ОЕУЛПМШЛП ТБЪ, РТЙЗМБЫБС ЪБЧБТЙФШ ЛПЖЕ. пО РПДОСМУС, ДПУФБМ ЙЪ ЫЛБЖЮЙЛБ РБИХЮЙК РПТПЫПЛ НПМПФПЗП ЛПЖЕ Й ЪБУЩРБМ ЕЗП. ъБФЕН ЧЪСМ ЮБЫЛХ Й РПДУФБЧЙМ РПД ОПУЙЛ. рБТ У ЫХНПН ОБЮБМ ЧЩТЩЧБФШУС, ОБРПМОСС ЮБЫЛХ, Й ЛХИОА ЪБРПМОЙМ ЛПЖЕКОЩК БТПНБФ. лПЗДБ РТПГЕУУ ВЩМ ЪБЛПОЮЕО, ПО РПЧЕТОХМУС Л ЛХИПООПНХ УФПМХ Й ПФ ОЕПЦЙДБООПУФЙ ЮХФШ ОЕ ЧЩТПОЙМ ЮБЫЛХ. дЕЧПЮЛБ, ФБ П ЛПФПТПК ПО ДХНБМ УПЧУЕН ОЕДБЧОП,
УФПСМБ Ч ДЧЕТСИ ЛХИОЙ Й УНПФТЕМБ ОБ ОЕЗП ЫЙТПЛП ТБУЛТЩФЩНЙ ЗМБЪБНЙ.
- фЩ? - ХДЙЧЙМУС ПО. - ФЩ РПЮЕНХ ОЕ УРЙЫШ?
ч ДЧЕТСИ УФПСМБ ПОБ 15,5 МЕФ ПФТПДХ ПДЕФБС Ч ОПЮОХА РЙЦБНХ, ОЕЦОП ЗПМХВПЗП ГЧЕФБ. пОБ ОЙЮЕЗП ОЕ УЛБЪБМБ Ч ПФЧЕФ, Б ФПМШЛП РТПЫМБ Ч ЛХИОА Й ЪБЛТЩМБ ЪБ УПВПА ДЧЕТШ.
пО РПДПЫЕМ Л УФПМХ, РПУФБЧЙМ УЧПА ЮБЫЛХ ОБ УФПМ Й УРТПУЙМ,
- лПЖЕ ВХДЕЫШ? -
- оЕФ - ПФЧЕФЙМБ ПОБ.
- б С ЧЩРША -
пО УЕМ ОБ ЛХИПООЩК ДЙЧБОЮЙЛ Й РТЙОСМУС УНБЛПЧБФШ ЗПТСЮЙК ФЕТРЛЙК ОБРЙФПЛ. нЩУМЙ ЧУЕ РЕТЕНЕЫБМЙУШ, ЛЙОП, Ч ЛПФПТПН ПО ФБЛ УФБТБФЕМШОП ЙУЛБМ УАЦЕФ, ЕЗП ВПМШЫЕ ОЕ ЙОФЕТЕУПЧБМП. пО ФХРП УНПФТЕМ Ч ФЕМЕЧЙЪПТ, Й ЛТБЕН ЗМБЪБ ЧЙДЕМ, ЛБЛ ВМЕУФСФ ЕЕ ЗМБЪБ.
- рПЗБУЙ, РПЦБМХКУФБ, УЧЕФ, - ЧДТХЗ УЛБЪБМБ ПОБ.
пО ЛБЛ РПД ЗЙРОПЪПН РПФСОХМУС Л ЧЩЛМАЮБФЕМА. эЕМЮПЛ, Й ОБ УФЕОБИ Й РПФПМЛЕ ОЕВПМШЫПК ЛХИОЙ ЪБЙЗТБМЙ ПФУЧЕФЩ ФЕМЕЬЛТБОБ. лХИОС РПЗТХЪЙМБУШ Ч РПМХНТБЛ.
пОБ РПДУЕМБ Л ОЕНХ Й РПМПЦЙМБ ЗПМПЧХ ОБ ЕЗП РМЕЮП.
- пВОЙНЙ НЕОС - ЫЕРПФПН УЛБЪБМБ ПОБ.
пО ФЙИПОШЛП РТПУХОХМ ТХЛХ ЪБ ЕЕ УРЙОПК Й ПВОСМ ЕЕ ЪБ ФБМЙА.
- ъОБЕЫШ, - УЛБЪБМБ ПОБ ДТПЦБЭЙН ЗПМПУПН, - С ДБЧОП МАВМА ФЕВС.
еЗП ТХЛБ ДТПЗОХМБ. пО УЙМШОЕЕ УЦБМ ЕЕ, РПЮХЧУФЧПЧБЧ, ЛБЛ ДТПЦЙФ РПД ЕЗП МБДПОША ЕЕ ФЕМП.
- фЩ ОЕ ЪБНЕТЪМБ? - УРТПУЙМ ПО.
- оЕФ, НОЕ УЕКЮБУ ПЮЕОШ ИПТПЫП.
й ПОБ РПФЕТМБУШ П ЕЗП РМЕЮП, ЛБЛ ФТЕФУС НБМЕОШЛЙК ЛПФЕОПЛ.
пО ФЙИПОШЛП РПГЕМПЧБМ ЕЕ Ч НБЛХЫЛХ, ПЭХФЙЧ ОЕПВЩЮБКОЩК РТЙМЙЧ ОЕЦОПУФЙ Л ЬФПНХ ДЕФУЛПНХ Й Ч ФП ЦЕ ЧТЕНС ХЦЕ ЧЪТПУМПНХ УХЭЕУФЧХ, ЛПФПТПЕ РПЪОБМП, ЮФП ФБЛПЕ МАВПЧШ.
дЕЧПЮЛБ ЛПУОХМБУШ УЧПЙНЙ ФПОЛЙНЙ РБМШГБНЙ ЕЗП ТХЛЙ, ЪБФЕН ЧЪСМБ ЕЕ Й, РПМОПУФША ПЧМБДЕЧ ЕА, РТЙОСМБУШ РЕТЕВЙТБФШ ЕЗП РБМШГЩ. пО УХДПТПЦОП РПУФБЧЙМ ЮБЫЛХ ОЕДПРЙФПЗП ЛПЖЕ ОБ УФПМ Й ОЕ ЪОБМ, ЮФП ДЕМБФШ ДБМШЫЕ. мБУЛЙ ЕЕ ТХЛЙ РТЙЧПДЙМЙ ЕЗП Ч ВЕЪХНУФЧП Й ЪБНЕЫБФЕМШУФЧП. пО ТЕЫЙМ, ЮФП РТПУФП ДПМЦЕО ПФЧЕФЙФШ ОБ ОЙИ. рТПДПМЦБС РСМЙФШУС Ч ОЙЮЕЗП ОЕЪОБЮБЭХА ФЕРЕТШ ДМС ОЕЗП ЛБТФЙОЛХ ЬЛТБОБ, ПО ПФЧЕЮБМ ОБ ЕЕ МБУЛЙ ФБЛЙНЙ ЦЕ МБУЛБНЙ УЧПЕК ТХЛЙ. рЕТЕВЙТБМ ЕЕ РБМШГЩ, ЭЕЛПФБМ МБДПЫЛХ, ЪБИЧБФЩЧБМ ЧУА ТХЛХ Й ФХ ЦЕ ПФРХУЛБМ
ЕЕ. йИ ЙЗТБ, ОБЧЕТОПЕ, РТПДПМЦБМБУШ ВЩ Й ДБМШЫЕ, ОП ОЕПЦЙДБООП ПОБ РПДОСМБ ЕЗП ТХЛХ Й РТЙЛПУОХМБУШ ЕА Л УЧПЕК ЗТХДЙ.
нПТПЪ РТПВЕЦБМ РП ЕЗП ЛПЦЕ: «юФП ПОБ ДЕМБЕФ, ЪБЮЕН ЪБЧПДЙФ ФБЛ НЕОС?». рТПОЕУМПУШ Х ОЕЗП Ч ЗПМПЧЕ. оП ТХЛБ ЕЗП ХЦЕ МЕЦБМБ ОБ ЕЕ ЗТХДЙ, РТЙЦБФБС УЧЕТИХ ЕЕ ТХЛПК. пО ФЙИПОЕЮЛП РПЫЕЧЕМЙМ ЕА. рПЮХЧУФЧПЧБЧ ХРТХЗПУФШ Й Ч ФПЦЕ ЧТЕНС ОЕПВЩЮБКОХА НСЗЛПУФШ РПД УЧПЕК МБДПОША, ЕНХ ЧДТХЗ ВЕЪХНОП ЪБИПФЕМПУШ МБУЛБФШ, ФЕТЪБФШ Й ФЙУЛБФШ ЬФП АОПЕ УПЪДБОЙЕ, ФБЛ ПФЛТПЧЕООП ПФДБЧБЧЫЕЕУС ЧУЕН УЧПЙН УХЭЕУФЧПН, ЧП ЧМБУФШ ЕЗП ТХЛ.
пО УЦБМ УЧПЙ РБМШГЩ Й РПЮХЧУФЧПЧБМ, ЛБЛ ЧУЕ ЕЕ ФЕМП ЪБЧЙВТЙТПЧБМП ПФ ЬФПЗП РТЙЛПУОПЧЕОЙС. нЕДМЕООП ПФРХУЛБС, ПО ЧПДЙМ УЧПЕК МБДПОША РП ФЛБОЙ ЕЕ УПТПЮЛЙ, УЛТЩЧБЧЫЕК ДЕЧЙЮШЙ РТЕМЕУФЙ. лБЛ ЦЕ ИПФЕМПУШ ЕНХ ЧЪЗМСОХФШ ОБ ЬФП ЮХДП. лБЛ ФПМШЛП ПО ПФРХУФЙМ ЕЕ ПОБ УМЕЗЛБ, РПЧЕТОХМБ ЗПМПЧХ Ч ЕЗП УФПТПОХ Й РПУНПФТЕМБ ОБЧЕТИ. йИ ЧЪЗМСДЩ ЧУФТЕФЙМЙУШ. вЕЪХНОЩК ПЗПОЕЛ ЙЗТБМ Ч ЬФПК РБТЕ ЗМБЪ, ЛПФПТБС ИПФЕМБ ЧЪБЙНОПК МБУЛЙ.
- мБУЛБК НЕОС - РТПЫЕРФБМБ ПОБ, РТПДПМЦБС Ч ХРПТ УНПФТЕФШ ОБ ОЕЗП. - ОЕ ПУФБОБЧМЙЧБКУС.
вПМШЫЕ ОЕ ДПУФБЧМСС ВПМШ, ПО РТПДПМЦЙМ ЗМБДЙФ ДЕЧЙЮША ЗТХДШ, ОЕЦОП РТЙЛБУБСУШ Л ОЕК ЮЕТЕЪ ФЛБОШ. юЕТЕЪ НЙОХФХ, ЛБЛ ЕНХ РПЛБЪБМПУШ, УПУЛЙ ЕЕ ЗТХДЙ ОБЮБМЙ ХЧЕМЙЮЙЧБФШУС, Й РТПУФХРБФШ ЮЕТЕЪ ФЛБОШ.
- оБ ДП ЦЕ, - УЛБЪБМ ПО ЧУМХИ.
- нОЕ ПЮЕОШ ИПТПЫП УЕКЮБУ. - ПФЧЕФЙМБ ПОБ.
еЗП ОЕРТЕПДПМЙНП ФСОХМП РТЙЛПУОХФШУС Л ЕЕ ДЕЧЙЮШЕК ЛПЦЕ, РПЮХЧУФЧПЧБФШ ЕЕ УЧПЙНЙ РБМШГБНЙ, ПЭХФЙФШ ЕЕ, ОП ПО ОЕ ЪОБМ, ЛБЛ ЬФП УДЕМБФШ ФБЛ, ЮФП ВЩ ОЕ ПВЙДЕФШ ЕЕ. пО ФЙИПОШЛП ПФПТЧБМ УЧПА ТХЛХ, Й РПМПЦЙ ОБ ЕЕ ЦЙЧПФ. мЕЗЛП РПЗМБЦЙЧБС ЕЗП, ПО РБМШГБНЙ НЕДМЕООП РПДОЙНБМ ЕЕ УПТПЮЛХ ЧЕТИ Й ЧУЛПТЕ, ЕЗП ТХЛБ РТЙЛПУОХМБУШ Л НСЗЛПНХ ФЕРМХ ЕЕ ЦЙЧПФБ. пОБ ОЙЮЕЗП ОЕ УЛБЪБМБ ЕНХ, Б ФПМШЛП ЛТЕРЮЕ РТЙЦБМБУШ Л ЕЗП РМЕЮХ.
еЗП ТХЛЙ ЪБУЛПМШЪЙМЙ РП ВБТИБФОПК РПЧЕТИОПУФЙ. пО ЮХЧУФЧПЧБМ, ЛБЛ ЛБЦДБС ЛМЕФПЮЛБ, Л ЛПФПТПК ПО РТЙЛБУБМУС, ПФЪЩЧБМБУШ НЕМЛПК ДТПЦША.
ч ЕЕ ЗПМПЧЕ ВЩМ РПМОЩК ЛБЧБТДБЛ. пОБ РТЕЛТБУОП РПОЙНБМБ, ЮФП ЕЕ УЕКЮБУ МБУЛБАФ ХЦЕ ОЕ ЛБЛ НБМЕОШЛПЗП ТЕВЕОЛБ, ЮФП ЧУЕ, ЮФП УЕКЮБУ РТПЙУИПДЙФ У ОЕК ПОБ УБНБ ОБЮБМБ, Й Ч ФП ЦЕ ЧТЕНС ВПСМБУШ. вПСМБУШ ТПДЙФЕМЕК, ВПСМБУШ ЕЗП. вПСМБУШ, УБНБ ОЕ ЪОБС ЮФП. оЕЙЪЧЕУФОПУФШ Й ОЕЧЕДБООПУФШ РТПЙУИПДСЭЕЗП, УНХЭБМБ ЕЕ Й, Ч ФП ЦЕ ЧТЕНС, ЪЧБМП ЙДФЙ ДБМШЫЕ. рТЙСФОПЕ ФЕРМП ТБЪМЙЧБМПУШ РП ЕЕ ФЕМХ ПФ ЕЗП РТЙЛПУОПЧЕОЙК. чЕУШ НЙТ РЕТЕЧПТБЮЙЧБМУС, УФТБИ, Й ХЗТЩЪЕОЙС УПЧЕУФЙ ВПТПМЙУШ Ч ОЕК У ЦЕМБОЙЕН РПМХЮБФШ ЬФХ ОБТБУФБАЭХА Ч ОЕК
ЧПМОХ. еК ВЕЪХНОП ИПФЕМПУШ ЪБЦБФШ УЧПА ТХЛХ НЕЦДХ ОПЗ, ОП ПОБ УФЕУОСМБУШ ЬФП УДЕМБФШ РТЙ ОЕН.
- юФП С ДЕМБА? - РТПНЕМШЛОХМП Х ОЕЗП Ч ЗПМПЧЕ, - ЧЕДШ ПОБ ЕЭЕ ТЕВЕОПЛ.
оП ПУФБОПЧЙФШУС ОЕ ДБЧБМП ЕЕ ФЕМП, ФЕМП ДЕЧПЮЛЙ, ЛПФПТБС ЦБЦДБМБ УФБФШ ЦЕОЭЙОПК, ЛПФПТБС ЧПУРТЙОЙНБМБ ЧУЕ ЕЗП МБУЛЙ, ЛБЛ ВХДФП ХЦЕ РПМХЮБМБ ЙИ ПФ ЛПЗП-ФП Й ПФЪЩЧБМБУШ ОБ ОЙИ ЧУЕ УЙМШОЕЕ. еЗП ТХЛЙ ЪБУЛПМШЪЙМЙ ЧЩЫЕ, Й ЧПФ ТЕВТП ЕЗП МБДПОЙ ЛПУОХМПУШ ХРТХЗПК ЗТХДЙ. пО РПЧЕТОХМ УЧПА ТХЛХ ФБЛ, ЮФП ЕЗП РБМШГЩ УФБМЙ МБУЛБФШ ЕЕ Х ОЙЦОЕЗП ПУОПЧБОЙС. йОПЗДБ ПОЙ РПДОЙНБМЙУШ ЮХФШ ЧЧЕТИ РП ЕЕ РПЧЕТИОПУФЙ Й ЛБУБМЙУШ УПУЛПЧ.
еЕ ПИЧБФЙМП РПМОПЕ ЪБНЕЫБФЕМШУФЧП.
- юФП С ДЕМБА? чЕДШ ЕЭЕ ОЙ ТБЪХ НХЦУЛБС ТХЛБ ОЕ ЛБУБМБУШ НПЕЗП ФЕМБ, Б ФЕН ВПМЕЕ ЪДЕУШ. - ДХНБМБ ПОБ. еК ИПФЕМПУШ УПТЧБФШУС Й ХВЕЦБФШ, ОП ЧОХФТЕООЕЕ ЮХФШЕ РПДУЛБЪЩЧБМП, ЬФПЗП ДЕМБФШ ОЕ ОБДП ЧУЕ ВХДЕФ ИПТПЫП. й ЧДТХЗ ОЕПЦЙДБООП ПЪПТОПЕ ЦЕМБОЙЕ ЧПЪОЙЛМП Ч ЕЕ ЗПМПЧЕ. рПЪБВЩЧ РТП ФП, ЮФП Ч ДПНЕ ПОЙ ОЕ ПДОЙ, ЮФП ЕК ЕЭЕ ТБОП ЧУЕН ЬФЙН ЪБОЙНБФШУС. пОБ РПЧЕТОХМБУШ Л ОЕНХ ЧУЕН ФЕМПН Й, УИЧБФЙЧ ЪБ ЛТБС ОПЮОПК УПТПЮЛЙ, РПФСОХМБ ЕЕ ЧЧЕТИ, УОСЧ ЮЕТЕЪ ЗПМПЧХ. пОБ УЙДЕМБ РЕТЕД УЧПЙН МАВЙНЩН, ПВОБЦЙЧ УЕВС ДП РПСУБ. оБ
ЕЕ ФЕМЕ ПФРМСУЩЧБМЙ УФТБООЩЕ ПФУЧЕФЩ ТБВПФБАЭЕЗП ФЕМЕЧЙЪПТБ.
пО УПЧУЕН ОБЮБМ ФЕТСФШ ЗПМПЧХ. еНХ ВЩМП Й ОЕМПЧЛП Й ВЕЪХНОП РТЙСФОП ЗМСДЕФШ ОБ ОЕЕ.
- юФП НЩ ДЕМБЕН, ЪБЮЕН? - УЛБЪБМ ПО.
пОБ РТЙВМЙЪЙМБУШ Л ОЕНХ, ПВОСМБ ЕЗП ЪБ ЫЕА Й ФЙИЙН ЫЕРПФПН УЛБЪБМБ:
- с ИПЮХ, ЮФП ВЩ ФЩ МБУЛБМ НЕОС, - Й РПМПЦЙМБ ЗПМПЧХ ОБ ЕЗП РМЕЮП.
еЗП ЧОХФТЕООЕЕ ЧПЪВХЦДЕОЙЕ ПФ ЕЕ РТЙЛПУОПЧЕОЙК ОБТБУФБМП ЛБЦДХА НЙОХФХ.
пОБ УМЕЗЛБ ПФПДЧЙОХМБУШ, ЧЪСМБ ЧПТПФ ЕЗП ИБМБФБ Й ТБЪДЧЙОХМБ ЕЗП, ПВОБЦЙЧ ЕЗП ЗТХДШ, Б ЪБФЕН ЧУЕН УЧПЙН УХЭЕУФЧПН РТЙЦБМБУШ Л ОЕНХ.
пО ЮХЧУФЧПЧБМ ЛБЛ ЕЕ ХРТХЗБС НБМЕОШЛБС ЗТХДШ, ЧПЪВХЦДЕООЩЕ УПУЛЙ, ЛБУБМЙУШ ЕЗП ФЕМБ, ЛБЛ РПД ЕЗП ТХЛБНЙ, ДЕТЦБЧЫЙНЙ ЕЕ, РТПВЕЗБМБ ДТПЦШ. пОБ ВЩМБ УМЙЫЛПН РТЕЛТБУОБ Й НПМПДБ ДМС ОЕЗП.
пО ЗМБДЙМ ЕЕ УРЙОХ, Б ПОБ ФЙИПОШЛП НХТМЩЛБМБ ЕНХ Ч ПФЧЕФ.
- оБН ОЕ УМЕДХЕФ ЙДФЙ ДБМШЫЕ, ЮЕН НЩ ХЦЕ ЪБЫМЙ, - РПДХНБМ ПО, Й ОЙЮЕЗП ОЕ РТЕДРТЙОЙНБМ ВПМШЫЕ, Б РТПУФП РПЗМБЦЙЧБМ ЕЕ.
пОБ РЕТЕУФБМБ ДТПЦБФШ. еЕ НЩЫГЩ ОБРТСЦЕООЩЕ, ЛБЛ Й ЕЕ ОЕТЧЩ, ОБЮБМЙ ХУРПЛБЙЧБФШУС ПФ ЕЗП РТПУФЩИ РТЙЛПУОПЧЕОЙК. рПФЙИПОШЛХ ПОБ УФБМБ ПЭХЭБФШ МЕЗЛХА ДТЕНПФХ ПВЧПМБЛЙЧБАЭХА ЕЕ ЧНЕУФЕ У ФЕРМПН ЕЗП ТХЛ.
рТПЫМП ЕЭЕ ОЕНОПЗП ЧТЕНЕОЙ, Й ПО РПОСМ, ЮФП ПОБ РТПУФП УРЙФ Ч ФБЛПН УФТБООПН РПМПЦЕОЙЙ Х ОЕЗП ОБ ТХЛБИ.
пО ФЙИПОЕЮЛП ЧЪСМ ЕЕ, РПДОСМ ОБ ТХЛЙ, Й ПФОЕУ Ч УЧПА ЛПНОБФХ. рПМПЦЙЧ ОБ ЛХЫЕФЛХ. пО ХЛТЩМ ЕЕ ЛТБУЙЧПЕ АОПЕ ФЕМП ПДЕСМПН Й РТЙУЕМ ТСДПН.
- лБЛ ФЩ ИПТПЫБ Й РТЕЛТБУОБ - РТПЫЕРФБМ ПО Й РПГЕМПЧБМ ЕЕ Ч МПВ.
пОБ ОЕ РТПУОХМБУШ, Б ФПМШЛП ЮФП-ФП РТПВХТЮБМБ ЧП УОЕ, УПЗТЕФБС ЕЗП ФЕРМПН Й ЕЗП МБУЛБНЙ. оБЧЕТОПЕ, ЕК УОЙМЙУШ ОЕПВЩЮБКОЩЕ УОЩ Ч ЬФХ ОПЮШ. б ПО, ПО ХЫЕМ ОБ ЛХИОА, ДПРЙМ УЧПК ИПМПДОЩК ЛПЖЕ, Ч ОБДЕЦДЕ ХУРПЛПЙФШ ОЕТЧЩ Й РТЕКФЙ Ч УЕВС, Й ПУФБМУС ФБН ДП ХФТБ, ФБЛ Й ОЕ ЧЩЛМАЮЙЧ ФЕМЕЧЙЪПТ.
уФЙТЛБ
лБФЕЗПТЙС:
рЕТЧЩК ПРЩФ
бЧФПТ:
н. уЕТЗЕЕЧ
йУФПТЙС, ТБУУЛБЪБООБС НОЕ ПДОПК ЙЪ НПЙИ РПДТХЗ
Ч ФПФ ЪОБНЕОБФЕМШОЩК УХВВПФОЙК ДЕОШ НБНБ ТЕЫЙМБ У ХФТБ ЪБОСФШУС УФЙТЛПК. уФЙТБМШОБС НБЫЙОЛБ Ч ФЕ ЗПДЩ Х ОБУ ВЩМБ ВПМШЫБС, ЛТХЗМБС, ОБРПНЙОБАЭБС РП ЖПТНЕ ВПЮЛХ. с, ЛБЛ РТЙНЕТОБС ДПЮЛБ, УХЕФЙМБУШ ТСДПН, ЧУСЮЕУЛЙ УФБТБАУШ РПНПЮШ.
МЙЪБ! рПДБК НОЕ РПДПДЕСМШОЙЛ - РПРТПУЙМБ НБНБ.
С ЧЪСМБ РПДПДЕСМШОЙЛ Й, РТПФСЗЙЧБС ЕЗП НБНЕ, УМХЮБКОП РТЙУМПОЙМБУШ ОЙЪПН ЦЙЧПФБ Л ТБВПФБАЭЕК НБЫЙОЛЕ. нБЫЙОЛБ ЧП ЧТЕНС ТБВПФЩ УЙМШОП Й НЕМЛП ДТПЦБМБ. с РПЮХЧУФЧПЧБМБ, ЛБЛ ЧОЙЪХ ЦЙЧПФБ УФБМП ОБТБУФБФШ РТЙСФОПЕ ЮХЧУФЧП. ъБНЕФЙЧ, ЮФП С РТЙЦЙНБАУШ Л НБЫЙОЛЕ, НБНБ УФТПЗП УЛБЪБМБ:
ПФПКДЙ ПФ НБЫЙОЛЙ, Б ФП ФПЛПН ХДБТЙФ!
С РПУМХЫОП ПФПЫМБ, ОП ТЕЫЙМБ РПЧФПТЙФШ ЬЛУРЕТЙНЕОФ У НБЫЙОЛПК, ЛПЗДБ ДПНБ ОЙЛПЗП ОЕ ВХДЕФ. ч УЧПЙ 7 МЕФ С ВЩМБ ПЮЕОШ МАВПЪОБФЕМШОПК Й, ЛПЗДБ ДПНБ ОЙЛПЗП ЛТПНЕ НЕОС ОЕ ВЩМП, ЮБУФП ЛПРБМБУШ Ч ЧЕЭБИ ТПДЙФЕМЕК, ЙМЙ ЙУУМЕДПЧБМБ У РПНПЭША ЪЕТЛБМБ УЧПЕ ФЕМП.
РТЙДС ОБ УМЕДХАЭЙК ДЕОШ ЙЪ ЫЛПМЩ, Й ОБУЛПТП РЕТЕЛХУЙЧ, С РПЫМБ Ч ЧБООХА. оЕ ЪОБА ЪБЮЕН, С ОБРПМОЙМБ НБЫЙОЛХ ЧПДПК Й, ЧУФБЧЙЧ ЧЙМЛХ Ч ТПЪЕФЛХ, ЧЛМАЮЙМБ ЕЕ. тБУУФБЧЙЧ Ч УФПТПОЩ ОПЦЛЙ, С РТЙУМПОЙМБУШ ОЙЪПН ЦЙЧПФБ Л НБЫЙОЛЕ, Й ПРСФШ ПЭХФЙМБ ОБТБУФБАЭЕЕ РТЙСФОПЕ ЮХЧУФЧП.
рПУФЕРЕООП, РТЙСФОПЕ ПЭХЭЕОЙЕ УФБОПЧЙМПУШ УЙМШОЕЕ. уМБДПУФОЩК ЪХД ТБЪТБУФБМУС Ч ФПН НЕУФЕ, ЗДЕ ОБИПДЙМБУШ НПС РЙУС. й, ЧДТХЗ, ЬФП ЮХЧУФЧП ТБЪПН УФБМП ФБЛЙН УЙМШОЩН, ЮФП ФЕМП НПЕ УФБМП ДЕТЗБФШУС. юЕТЕЪ ОЕРТПДПМЦЙФЕМШОПЕ НЗОПЧЕОЙЕ С РПОСМБ, ЮФП ВПМШЫЕ ОЕ НПЗХ ЬФП ЧЩОПУЙФШ, ЮФП НОЕ ХЦЕ УФБМП ОЕРТЙСФОП, Й С ЧЩЛМАЮЙМБ НБЫЙОЛХ. пРХУФЙЧЫЙУШ ОБ ЛПТФПЮЛЙ, ЮБУФП Й ЫХНОП ДЩЫБ, С РТЙЫМБ Ч УЕВС. «юФП ЬФП? нПЦЕФ, ЬФП НЕОС ФПЛПН ХДБТЙМП?» - ДХНБМБ С - «фПЗДБ РПЮЕНХ ВЩМП ФБЛ РТЙСФОП?». нОЕ ПЮЕОШ ЪБИПФЕМПУШ РПЧФПТЙФШ. с ПРСФШ ЧЛМАЮЙМБ НБЫЙОЛХ Й РТЙУМПОЙМБУШ Л ОЕК МПВЛПН.
чУЕ РПЧФПТЙМПУШ. нПК ПТЗБОЙЪН ПРСФШ УПФТСУБМЙ УМБДПУФОП-РТЙСФОЩЕ ЧПМОЩ, Б Ч ЪЕТЛБМЕ С ХЧЙДЕМБ, ЛБЛ ПФ ЬФПК УМБДПУФЙ ЙУЛБЪЙМПУШ НПЕ МЙГП. рПУМЕ ФТЕФШЕЗП ЧЛМАЮЕОЙС, ЛПЗДБ, ХУФБЧ, С ПРСФШ УЙДЕМБ ОБ РПМХ ОБ ЛПТФПЮЛБИ, С РПОСМБ, ЮФП НОЕ ХЦЕ ВПМШЫЕ ОЕ ИПЮЕФУС. чЩМЙЧ ЙЪ НБЫЙОЛЙ ЧПДХ, С ЧЩФЕТМБ ЕЕ ОБУХИП ФТСРЛПК Й ХЫМБ Ч ЛПНОБФХ. йДС Ч ЛПНОБФХ, С РПЮХЧУФЧПЧБМБ, ЮФП НПЙ ФТХУЙЛЙ ЧУЕ НПЛТЩЕ. рТПУХОХЧ ТХЛХ ЮЕТЕЪ ТЕЪЙОЛХ, С РПМПЦЙМБ МБДПОШ ОБ РЙУШЛХ. рЙУШЛБ ВЩМБ НПЛТПК Й ЛБЛПК-ФП УЛПМШЪЛПК. рТЙЛПУОПЧЕОЙС ОЕ ДПУФБЧМСМЙ ХДПЧПМШУФЧЙС, ЛБЛ ЬФП ВЩМП ПВЩЮОП, ЙЪ-ЪБ ХУФБМПУФЙ ПФ РЕТЕЦЙФПЗП Ч ЧБООПК.
ОБ УМЕДХАЭЙК ДЕОШ, ОБ РЕТЕНЕОЕ, С ТБУУЛБЪБМБ УЧПЕК РПДТХЗЕ РТП ЬЛУРЕТЙНЕОФ У НБЫЙОЛПК.
ДБК РПРТПВПЧБФШ? - РПРТПУЙМБ ПОБ, Й НЩ ТЕЫЙМЙ ЧНЕУФЕ РПУМЕ ЫЛПМЩ РПКФЙ ЛП НОЕ.
РТЙЧЕДС РПУМЕ ХТПЛПЧ чЕТЛХ Л УЕВЕ ДПНПК, С РТПЧЕМБ ЕЕ Ч ЧБООХА. чПДХ Ч НБЫЙОЛХ С ЪБМЙЧБФШ ОЕ УФБМБ, Б, РТЙУМПОЙЧ МПВПЛ РПДТХЗЙ Л НБЫЙОЛЕ, ЧЛМАЮЙМБ ЕЕ. чЕТЛБ УТБЪХ ПФУФТБОЙМБУШ.
НОЕ ЭЕЛПФОП!
ФПЗДБ ДБК С!
С РТЙУМПОЙМБУШ Л НБЫЙОЛЕ Й, ДПКДС ДП РЙЛБ РТЙСФОПЗП, ЗТПНЛП Й РТЕТЩЧЙУФП ДЩЫБ, ЪБДЕТЗБМБУШ ФЕМПН.
ЮФП У ФПВПК?! - УРТПУЙМБ чЕТЛБ.
ЬФП ПФ ФПЗП, ЮФП ПЮЕОШ РТЙСФОП!
ЧЕТЛБ ПРСФШ ОЕТЕЫЙФЕМШОП РТЙУМПОЙМБУШ Л НБЫЙОЛЕ. пОБ ФП РТЙЦЙНБМБ, ФП ХВЙТБМБ УЧПК МПВПЛ. й ФПЗДБ С ТЕЫЙМБ ЕК РПНПЮШ. с ЧУФБМБ УЪБДЙ ЕЕ Й, ЧЪСЧЫЙУШ ТХЛБНЙ ЪБ НБЫЙОЛХ, РТЙЦБМБ Л ОЕК УЧПЙН ФЕМПН чЕТЛХ. мПВЛПН С ЮХЧУФЧПЧБМБ ХРТХЗХА ДЕЧЙЮША РПРЛХ Й ЬФП ВЩМП РТЙСФОП.
РПОБЮБМХ ПОБ ЧЩТЧБМБУШ, ОП РПФПН ЪБНЕТМБ, Б ЮЕТЕЪ ОЕЛПФПТПЕ ЧТЕНС С ПЭХФЙМБ УЧПЙН ФЕМПН, ЮФП ЪБД РПДТХЗЙ УПЧЕТЫБЕФ ЛБЛЙЕ-ФП ЛТХЗППВТБЪОЩЕ ДЧЙЦЕОЙС.
НБНБ…, НБНПЮЛЙ… - ФПОЕОШЛЙН ЗПМПУЛПН ЪБУЛХМЙМБ чЕТЛБ.
ЦБДОЩНЙ ЗМБЪБНЙ С ОБВМАДБМБ, ЛБЛ ЧПМОЩ ПТЗБЪНБ РТПИПДСФ РП ИТХРЛПНХ ФЕМХ чЕТЛЙ, Б МПВЛПН ЮХЧУФЧПЧБМБ, ЛБЛ ДЕТЗБЕФУС ЕЕ РПРЛБ. чДТХЗ, ПОБ У УЙМПК ЧЩТЧБМБУШ ЙЪ НПЕЗП РМЕОБ.
ЧУЕ…, ВПМШЫЕ ОЕ НПЗХ…!
РТЙСФОП ВЩМП?
ПВБМДЕФШ!
ЕЭЕ ВХДЕЫШ?
ДБ! фПМШЛП ПФДЩЫХУШ!
ЛБЛ ОБТЛПНБО ЪБТБЦБЕФ ФСЗПК Л ОБТЛПФЙЛБН УЧПЙИ ДТХЪЕК, ФБЛ Й С «ЪБТБЪЙМБ» НБЫЙОЛПК РПЮФЙ ЧУЕИ ДЕЧПЮЕЛ ОБЫЕЗП ЛМБУУБ. фЕ, Х ЛПЗП ДПНБ ВЩМЙ УФЙТБМШОЩЕ НБЫЙОЛЙ, УФБМЙ ТЕЗХМСТОП ЪБОЙНБФШУС «УФЙТЛПК» ВЕЪ ВЕМШС, Б Х ЛПЗП ЙИ ОЕ ВЩМП, ИПДЙМЙ Ч ЗПУФЙ Л ФЕН, Х ЛПЗП ПОЙ ВЩМЙ. рПЪЦЕ, НЩ ОБХЮЙМЙУШ ПВИПДЙФШУС ВЕЪ НБЫЙОПЛ, ОП ЬФП ХЦЕ ДТХЗБС ЙУФПТЙС.
н. уЕТЗЕЕЧ
уЕУФТЙГБ бМЕОХЫЛБ
лБФЕЗПТЙС:
рЕТЧЩК ПРЩФ
бЧФПТ:
н. уЕТЗЕЕЧ
ВЩМ Х НЕОС ПДОПЛМБУУОЙЛ РП ЙНЕОЙ йЧБО. нЩ У ОЙН ЧНЕУФЕ ЪБОЙНБМЙУШ Ч БЧЙБНПДЕМШОПК ЛТХЦЛЕ. лБЛ-ФП С, ДЕМБС НПДЕМШ УБНПМЕФБ, ПВОБТХЦЙМ, ЮФП Х НЕОС ЪБЛПОЮЙМБУШ ЛБМШЛБ (ВХНБЗБ ЛПФПТПК ПВЛМЕЙЧБАФ ЛТЩМШС). с РПВЕЦБМ Ч НБЗБЪЙО. лБМШЛЙ ОЕ ВЩМП. фПЗДБ С ЧУРПНОЙМ, ЮФП йЧБО ЗПЧПТЙМ, ЮФП Х ОЕЗП ЕУФШ ГЕМЩК ТХМПО ЛБМШЛЙ. юЕТЕЪ 3 НЙОХФЩ С ЪЧПОЙМ Л ОЕНХ Ч ДЧЕТШ.
дЧЕТШ ПФЛТЩМБ ЕЗП УФБТЫБС УЕУФТБ. еЕ ЪЧБМЙ мЕОБ, Й НЩ У ТЕВСФБНЙ ПВЩЮОП ДТБЪОЙМЙ ЙИ: «уЕУФТЙГБ бМЕОХЫЛБ Й ВТБФЕГ йЧБОХЫЛБ», Б чБОШЛХ ЙОПЗДБ ЪЧБМЙ «лПЪМЕОПЮЛПН», ПУПВЕООП ЛПЗДБ ПО ЮФП-ОЙВХДШ РЙМ - «оЕ РЕК! лПЪМЕОПЮЛПН УФБОЕЫШ!». мЕОБ ВЩМБ ОБ 4 ЗПДБ УФБТЫЕ Й, У ЧЩУПФЩ НПЙИ 14 МЕФ, ЛБЪБМБУШ ХЦБУОП ЧЪТПУМПК.
- йЧБО ДПНБ?
- ъБКДЙ! чБОШЛЙ ОЕФ. пО ОБ ТЩВБМЛХ ХЕИБМ У ДЧПАТПДОЩН ВТБФПН с ЧЩНЩФШУС ТЕЫЙМБ, Б НОЕ РП ФЕМЕЖПОХ ДПМЦОЩ РПЪЧПОЙФШ. фЩ РПУЙДЙ, Б, ЕУМЙ РПЪЧПОСФ, УЛБЦЙ, ЮФП С Ч ЧБООПК. рХУФШ ЮЕТЕЪ 15 НЙОХФ РЕТЕЪЧПОСФ.
у ЬФЙНЙ УМПЧБНЙ «бМЕОХЫЛБ» ЪБФБЭЙМБ НЕОС Ч ЛЧБТФЙТХ, РПДПЦДБМБ, РПЛБ С ТБЪХАУШ Й РТПКДХ Ч ЛПНОБФХ, Й ХЫМБ Ч ЧБООХА.
ч ЧБООПК Х ОЙИ ВЩМП ПЛОП, ЛПФПТПЕ ЧЩИПДЙМП ОБ ЛХИОА. лБЛ-ФП чБОШЛБ ТБУУЛБЪЩЧБМ, ЮФП, ЛПЗДБ УЕУФТБ НПЕФУС, ПО ЙОПЗДБ РПДЗМСДЩЧБЕФ, Й ТЕЫЙМ РПУНПФТЕФШ ОБ ЗПМХА мЕОХ. с ПУФПТПЦОП РТПЫЕМ ОБ ЛХИОА. пЛОП ВЩМП ЧЩУПЛП. с ЧУФБМ ОБ ПВЕДЕООЩК УФПМ Й ЪБЗМСОХМ Ч ПЛОП. мЕОБ УФПСМБ РПД ДХЫЕН ВПЛПН ЛП НОЕ Й ЗХВЛПК ФЕТМБ ОЙЪ ЦЙЧПФБ. лПОЕГ НПК ПФ ЬФПЗП ЪТЕМЙЭБ ЧУФБМ УФПМВПН. й ФХФ ПОБ ВЩУФТП РПЧЕТОХМБ ЗПМПЧХ Й РПУНПФТЕМБ Ч ПЛОП. с РТЙУЕМ, ПУФПТПЦОП УМЕЪ УП УФПМБ Й РТПЛТБМУС Ч ЛПНОБФХ. нЕОС УЙМШОП НХЮЙМБ НЩУМШ, ЮФП
ПОБ НЕОС ЪБУЕЛМБ.
юЕТЕЪ ОЕЛПФПТПЕ ЧТЕНС С ХУМЩЫБМ, ЛБЛ ПОБ ЧЩЫМБ ЙЪ ЧБООПК, ПФЛТЩМБУШ ДЧЕТШ Й
мЕОБ РТПЫМБ Ч ЛПНОБФХ. оБ ОЕК ВЩМ ОБДЕФ ЛПТПФЛЙК ЪЕМЕОЩК ИБМБФЙЛ.
- рПДЗМСДЩЧБМ? - УРТПУЙМБ ПОБ, ХМЩВБСУШ Й Ч ХРПТ ЗМСДС НОЕ Ч ЗМБЪБ.
с ФХРП НПМЮБМ. жЙЪЙПОПНЙС НПС УФБМБ РХОГПЧПК ПФ УФЩДБ.
- юФП, ЙОФЕТЕУОП РПУНПФТЕФШ? оЙЛПЗДБ ОЕ ЧЙДЕМ? рПРТПУЙМ ВЩ, С ВЩ ФЕВЕ Й ФБЛ РПЛБЪБМБ.
- лБЛ?
- б ЧПФ ФБЛ!
у ЬФЙНЙ УМПЧБНЙ ПОБ ТБУРБИОХМБ ИБМБФ. зПМПЧБ НПС РПЫМБ ЛТХЗПН. ч НЕФТЕ ПФ УЕВС С РЕТЧЩК ТБЪ Ч ЦЙЪОЙ ЧЙДЕМ ЛТБУЙЧПЕ Й БВУПМАФОП ЗПМПЕ ФЕМП НПМПДПК ДЕЧХЫЛЙ.
пОБ УДЕМБМБ ЫБЗ ЛП НОЕ.
- оБУНПФТЕМУС? нПЦЕФ, ФЩ Й РПФТПЗБФШ ИПЮЕЫШ?
- лБЛ? - ПРСФШ ФХРП УРТПУЙМ С.
- чПФ ФБЛ!
пОБ РТПФСОХМБ ТХЛХ Й РПМПЦЙМБ ЕЕ НОЕ НЕЦДХ ОПЗ. рБМШГЩ ЕЕ, УЦЙНБСУШ Й ТБЪЦЙНБСУШ, НСМЙ НПК ЮМЕО. еНХ УФБМП ПЮЕОШ ФЕУОП.
- йДЙ УАДБ! - Й ПОБ РПФСОХМБ НЕОС Л ДЙЧБОХ.
рТЙУЕЧ ОБ ДЙЧБО, ПОБ УФБМБ ТБУУФЕЗЙЧБФШ НОЕ ВТАЛЙ.
тХЛЙ ЕЕ ДТПЦБМЙ. юЕТЕЪ ОЕЛПФПТПЕ ЧТЕНС С ВЩМ РПМОПУФША ТБЪДЕФ.
- лБЛЙЕ НЩ ВПМШЫЙЕ! - ЧПУИЙЭЕООП УЛБЪБМБ ПОБ - оЕ Х ЛБЦДПЗП ЧЪТПУМПЗП НХЦЙЛБ ФБЛПЕ ВПЗБФУФЧП! уЕКЮБУ НЩ РПРТПВХЕН РПЪОБЛПНЙФШ ЕЗП У НПЕК «ЛЙУЛПК»! фПМШЛП, ДМС ЮЙУФПФЩ ОБЫЙИ ПФОПЫЕОЙК, УВЕЗБК Ч ЧБООХА!
с ВЩУФТП, ОП ФЭБФЕМШОП ЧЩНЩМ ЧУЕ УЧПЙ ЙОФЙНОЩЕ НЕУФБ Й, ЧЕТОХЧЫЙУШ Ч ЛПНОБФХ, РПДПЫЕМ Л ДЙЧБОХ, ЛПФПТЩК мЕОБ ХЦЕ ХУРЕМБ ТБЪМПЦЙФШ.
пОБ РПФСОХМБ НЕОС ЪБ ТХЛХ, Й С ЪБЧБМЙМУС ОБ ДЙЧБО ТСДПН У ОЕК. еЕ ЗТХДЙ ЛБУБМЙУШ НПЕЗП ФЕМБ. рТЙЛПУОПЧЕОЙС ЙИ ВЩМЙ ПЮЕОШ РТЙСФОЩ. зХВЩ ЕЕ РТЙВМЙЪЙМЙУШ Л НПЙН Й ПОБ НЕОС РПГЕМПЧБМБ. зПМПЧБ ЛТХЦЙМБУШ, ДЩИБОЙС ОЕ ИЧБФБМП. с РПЮХЧУФЧПЧБМ, ЛБЛ ПОБ ЧЪСМБ НЕОС ЪБ ТХЛХ Й РПМПЦЙМБ НПА МБДПОШ ОБ УЧПК МПВПЛ.
нЕЦДХ ОПЗ мЕОЩ ВЩМП НПЛТП Й ФЕРМП. с ЧЧЕМ РБМШЮЙЛ Ч ЕЕ ЛЙУЛХ. мЕОБ РПДБМБУШ ОБЧУФТЕЮХ НПЕК ТХЛЕ Й УФБМБ ДЕМБФШ ФЕМПН РПУФХРБФЕМШОЩЕ ДЧЙЦЕОЙС. нПК РБМШЮЙЛ ОЩТСМ ЧП ЧМБЦОХА ЗМХВЙОХ ЕЕ ФЕМБ.
- фЕРЕТШ РПЗМБДШ ВХЗПТПЛ, ЛПФПТЩК ЧЧЕТИХ! - РПРТПУЙМБ ПОБ.
с ОБЭХРБМ НБМЕОШЛЙК ЛБЛ ЗПТПЫЙОБ, ФЧЕТДЩК ВХЗПТПЛ. мЕОБ ОЕЗТПНЛП БИОХМБ.
- оЕ ФБЛ УЙМШОП, РПУМБВЕЕ…
тХЛБ ЕЕ РПФСОХМБУШ Л НПЕНХ ЮМЕОХ, ПВИЧБФЙМБ ЕЗП Й УФБМБ ПЗПМСФШ ЕЗП ЗПМПЧЛХ. вХДХЮЙ ОБ РТЕДЕМШОПН ЧЪЧПДЕ, С РПЮФЙ УТБЪХ УФБМ УРХУЛБФШ. лПЗДБ С ЪБЛПОЮЙМ, мЕОБ ХВТБМБ ТХЛХ.
- фЕРЕТШ ФЩ НОЕ…. - РПРТПУЙМБ ПОБ, Й С РТПДПМЦЙМ РТЕТЧБООПЕ НОПА РПЗМБЦЙЧБОЙЕ ЕЕ ЗПТПЫЙОЩ. дЩИБОЙЕ ЕЕ УФБМП ЗТПНЛЙН Й РТЕТЩЧЙУФЩН, ПОБ ЧЩЗОХМБУШ ЧУЕН ФЕМПН Й ПВНСЛМБ.
нЙОХФ ЮЕТЕЪ РСФШ ПОБ УЛБЪБМБ:
- фЕРЕТШ НПЦЕЫШ РПУНПФТЕФШ РПВМЙЦЕ, ЕУМЙ ИПЮЕЫШ…
лПОЕЮОП, С ПЮЕОШ ИПФЕМ Й, ЧУФБЧ ОБ ЛПМЕОЙ НЕЦДХ ЕЕ ТБЪДЧЙОХФЩИ ОПЗ, УФБМ ТБУУНБФТЙЧБФШ ЕЕ РЕЭЕТЛХ. пУФПТПЦОП ТБЪДЧЙОХЧ РБМШГБНЙ ЕЕ ЗХВЛЙ, С ХЧЙДЕМ ОЕЦОХА ТПЪПЧХА ЗМХВЙОХ.
- иПЮЕЫШ ФХДБ? - У РТЙДЩИБОЙЕН УРТПУЙМБ ПОБ.
- пЮЕОШ ИПЮХ!
- фПЗДБ УВЕЗБК ПРСФШ Ч ЧБООХА, УНПК У ЛПОГБ ПУФБФЛЙ УРЕТНЩ, Б ЛПЗДБ ВХДЕЫШ ВМЙЪЛП Л ПТЗБЪНХ, ОЕ ЛПОЮБК Ч НЕОС. уЛБЦЙ НОЕ, ЮФП ФЩ ВМЙЪЛП. с ЮФП-ОЙВХДШ РТЙДХНБА.
с ДПВТПУПЧЕУФОП ЧЩРПМОЙМ ЧУЕ, ЮФП ПОБ УЛБЪБМБ, Й МЕЗ ТСДПН У ОЕК.
- мСЗ ОБ НЕОС.
с МЕЗ УЧЕТИХ. мЕОБ ЧЪСМБ ТХЛПК НПК ЮМЕО Й ОБРТБЧЙМБ УЕВЕ Ч РЕЭЕТЛХ. вЩМП ФБН УЛПМШЪЛП, ФЕРМП Й ПЮЕОШ-ПЮЕОШ РТЙСФОП. с ОБЮБМ ЙН ДЧЙЗБФШ, Б мЕОБ УФБМБ ДЧЙЗБФШУС ОБЧУФТЕЮХ НОЕ.
- бИ, ЛБЛ ИПТПЫП! лБЛ ИПТПЫП…- ЫЕРФБМБ ПОБ - еЭЕ, ЕЭЕ…, ЕЭЕ…
- мЕОБ, С ВМЙЪЛП!
- рПДПЦДЙ - ПОБ ЧЩУЧПВПДЙМБУШ ЙЪ-РПД НЕОС Й, ОБЛМПОЙЧЫЙУШ ОБДП НОПК, ЧФСОХМБ НПК ЮМЕО Ч ТПФ. еЕ СЪЩЛ ЪБУЛПМШЪЙМ РП ЗПМПЧЛЕ, Б РБМШЮЙЛБНЙ ПОБ ДЕМБМБ ДЧЙЦЕОЙС РП ЮМЕОХ, ЛПФПТЩЕ ТЕВСФБ Ч РЙПОЕТМБЗЕТЕ ОБЪЩЧБМЙ «ДТПЮЙФШ». оЕРЕТЕДБЧБЕНП РТЙСФОЩЕ ПЭХЭЕОЙС ПИЧБФЙМЙ НЕОС, С ЪБДЕТЗБМУС Й УРХУФЙМ Ч мЕОЙО ТПФЙЛ.
- фЕВЕ ВЩМП ИПТПЫП?
- дБ! ьФП ЗПТБЪДП РТЙСФОЕЕ, ЮЕН ДЕМБФШ ИПТПЫП УБНПНХ УЕВЕ - ЧЩТЧБМПУШ Х НЕОС.
- б ФЩ ДБЧОП ДЕМБЕЫШ ЬФП УБН УЕВЕ?
- мЕФ У 12-Й. б ФЩ?
- й С ФПЦЕ МЕФ У 12-Й. б ФЩ УТБЪХ УФБМ ЛПОЮБФШ?
- оЕФ. рПОБЮБМХ РТПУФП ДТПЮЙМ ОЕ ЛПОЮБС, Б РПФПН ЛБЛ-ФП ТБЪ, ДЕМБМ ЬФП ДПМЗП Й ЛПОЮЙМ. б ФЩ?
- с РПЮФЙ РПМЗПДБ ОЕ НПЗМБ ЛПОЮЙФШ. уЕТЕЦБ! с Й УЕКЮБУ ОЕ ХУРЕМБ ЛПОЮЙФШ. фЩ НПЦЕЫШ РПГЕМПЧБФШ НЕОС? фБН…., ЧОЙЪХ…?
с ОБЛМПОЙМУС ОБД мЕОЙОПК ЛЙУЛПК, РТПУХОХМ УЧПЙ МБДПОЙ РПД ЕЕ СЗПДЙГЩ, РПРЩФБМУС РТЙРПДОСФШ ЕЕ РПРЛХ. дПЗБДМЙЧБС мЕОБ РПОСМБ, ЮФП НОЕ ОЕ УПЧУЕН ХДПВОП Й РТЙРПДОСМБ ОПЗЙ, ТБЪЧЕДС ЙИ Ч УФПТПОЩ Й УПЗОХЧ Ч ЛПМЕОСИ. еЕ РЕЭЕТЛБ РТЙРПДОСМБУШ Й РТЙЪЩЧОП УНПФТЕМБ ОБ НЕОС. с ЧЧЕМ УЧПК СЪЩЛ Ч мЕОЙОП МПОП Й УДЕМБМ ЙН ОЕУЛПМШЛП РПУФХРБФЕМШОЩИ ДЧЙЦЕОЙК.
- уЕТЕЦБ, ОЕ ФБЛ. лМЙФПТ РПМЙЦЙ…..оХ, ФПФ ВХЗПТПЛ…..
с РПОСМ ЕЕ Й УФБМ ЧПДЙФШ СЪЩЛПН РП ЛМЙФПТХ, Б РПФПН ЧУПУБМ ЕЗП Ч УЧПК ТПФ, ОЕ РТЕЛТБЭБС ТБВПФБФШ СЪЩЛПН. дТПЦБЭЙЕ мЕОЙОЩ ОПЗЙ ПВИЧБФЙМЙ Й УЦБМЙ НПА ЗПМПЧХ. дБЦЕ ЕУМЙ ВЩ С ЪБИПФЕМ ЧЩТЧБФШУС, С ВЩ ОЕ НПЗ. мЕОБ МЕЦБМБ, ЪБЛТЩЧ ЗМБЪБ Й НСМБ ДЧХНС ТХЛБНЙ УЧПА ЛТБУЙЧХА ЗТХДШ. чДТХЗ ОПЗЙ ДЕЧХЫЛЙ У ФБЛПК УЙМПК УДБЧЙМЙ НПА ЗПМПЧХ, ЮФП НОЕ УФБМП ЕЕ ВПМШОП. мЕОБ ЪБФТСУМБУШ Й УП ЧУИМЙРПН ПВНСЛМБ. зМБЪБ ЕЕ ПФТЕЫЕООП УНПФТЕМЙ Ч РПФПМПЛ.
- с УДЕМБМБ ФЕВЕ ВПМШОП? - УРТПУЙМБ ПОБ - йЪЧЙОЙ, ОЕ НПЗХ УЕВС ЛПОФТПМЙТПЧБФШ,
ЛПЗДБ ЛПОЮБА. б ФЩ НПМПДЕГ, УРПУПВОЩК НБМШЮЙЛ!
нОЕ ХЦЕ ИПФЕМПУШ ЕЭЕ. с ПУФПТПЦОП ЧЪСМ мЕОХ ЪБ ЗТХДШ Й УФБМ НСФШ РБМШГЕН ЕЕ УПУПЛ.
- рПГЕМХК ЕЗП…..
с ЧЪСМ УПУПЛ ЗХВБНЙ.
- рПУЙМШОЕЕ…ЧУПУЙ Ч ТПФЙЛ….
мЕОБ ПРСФШ УФБМБ ЪБЧПДЙФШУС. с, ГЕМХС ЗТХДШ, УФБМ ЗМБДЙФШ РБМШЮЙЛПН ЕЕ МАВЙНХА ЗПТПЫЙОХ, ОП мЕОБ ЧДТХЗ ЧЩУЧПВПДЙМБ НПА ТХЛХ Й УЛБЪБМБ:
- пУФБМУС ЕЭЕ ПДЙО ЬФБР ОБЫЕЗП У ФПВПА ТБЪЧТБФБ, ОП С ЮЕТЕЪ ЬФП ЕЭЕ ОЕ РТПИПДЙМБ,
ИПФС РПРТПВПЧБФШ ДБЧОП ИПФЕМБ.
мЕОБ ЧУФБМБ ОБ ЛПМЕОЙ, Б ЪБФЕН Й ОБ МПЛФЙ Й ЧЩЗОХМБ УРЙОХ. с, УРПУПВОЩК НБМШЮЙЛ, РТЙУФТПЙМУС УЪБДЙ Й ЧЧЕМ УЧПК ЮМЕО Ч ЕЕ ЛЙУЛХ.
- уЕТЕЦБ! нЩ ЬФП ХЦЕ РТПИПДЙМЙ. дБЧБК РПРТПВХЕН ЧЧЕУФЙ ЕЗП НОЕ Ч РПРЛХ. фПМШЛП
ОЕ УТБЪХ. чЧЕДЙ ЧОБЮБМЕ РБМШЮЙЛ.
с ЧЧЕМ ХЛБЪБФЕМШОЩК РБМЕГ Ч мЕОЙОХ РПРЛХ. пОБ, ЛБЛ Й ЕЕ ЛЙУЛБ, ВЩМБ ЧУС УЛПМШЪЛБС.
- мЕО! фЩ ЕЕ УНБЪБМБ?
- дБ. тПДЙФЕМЙ РТЙЧЕЪМЙ ЙЪ-ЪБ ЗТБОЙГЩ УНБЪЛХ ОБ ЧПДОПК ПУОПЧЕ, УРЕГЙБМШОП ДМС УЕЛУБ. с Х ОЙИ ЕЕ УМХЮБКОП ОБЫМБ.
- мЕО! оП ЧЕДШ ЧЩИПДЙФ, ЮФП ФЩ ЪБТБОЕЕ ТЕЫЙМБ МЕЮШ УП НОПК, ТБЪ ФЩ ЕЕ УНБЪБМБ ЕЭЕ Ч ЧБООПК?
- дБ. оЙЛФП ЪЧПОЙФШ НОЕ ОЕ ДПМЦЕО. с ЬФП УЛБЪБМБ, ЮФПВЩ ЪБНБОЙФШ ФЕВС Ч ЛЧБТФЙТХ.
нОЕ РЕТЕД ФЧПЙН РТЙИПДПН ПЮЕОШ УЙМШОП ИПФЕМПУШ. чЧЕДЙ ФЕРЕТШ ДЧБ РБМШЮЙЛБ Й ФЙИПОШЛП ЙНЙ РПЛТХФЙ.
нОЕ РПЛБЪБМПУШ, ЮФП РПУМЕ ФПЗП ЛБЛ С РПЛТХФЙМ РБМШГБНЙ Ч мЕОЙОПК РПРЛЕ, ЧИПД Ч ОЕЕ ОЕНОПЗП ТБУЫЙТЙМУС. с ПРСФШ РТЙУФТПЙМУС УЪБДЙ, РТЙУФБЧЙМ ЗПМПЧЛХ ЮМЕОБ Л ДЩТПЮЛЕ Й ПУФПТПЦОП ОБДБЧЙМ. чОБЮБМЕ ЮМЕО ОЕ ИПФЕМ ФХДБ ЪБИПДЙФШ, ОП РПФПН УФБМ НЕДМЕООП РТПОЙЛБФШ Ч ЗМХВШ. мЕОБ ПИОХМБ Й УФБМБ РПДБЧБФШУС ОБЧУФТЕЮХ НПЕНХ ЮМЕОХ. рПУФЕРЕООП ПО ЧПЫЕМ ЧОХФТШ ВПМШЫЕ ЮЕН ОБРПМПЧЙОХ.
- зМХВЦЕ ОЕ ОБДП - РПРТПУЙМБ мЕОБ - Б ФП ВХДЕФ ВПМШОП. дЧЙЗБКУС!
с УФБМ ДЧЙЗБФШУС. рТБЧБС ТХЛБ мЕОЩ УЛПМШЪОХМБ ЧОЙЪ, Й С РПЮХЧУФЧПЧБМ, ЮФП ПОБ МБУЛБЕФ УЧПК ЛМЙФПТ. рПУФЕРЕООП С РТЙВМЙЦБМУС Л ТБЪЧСЪЛЕ Й ЛПЗДБ РПДПЫЕМ ПТЗБЪН, С ЛПОЮБС, ЧЧЕМ ЮМЕО ОБ ЧУА ЗМХВЙОХ Й, ОЕ УНПФТС ОБ ФП, ЮФП мЕОБ ЛБЦДЩК НПК ФПМЮПЛ УПРТПЧПЦДБМБ ЧУЛТЙЛПН, С, РТПДПМЦБС ЪБФБМЛЙЧБФШ ЕЗП ЛБЛ НПЦОП ЗМХВЦЕ, ЛПОЮЙМ. нЩ ПВБ, ЛБЛ РПДЛПЫЕООЩЕ, ТХИОХМЙ ОБ ДЙЧБО.
- уЕТЕЦБ! с ЦЕ РТПУЙМБ….фЩ ФПЦЕ УЕВС ОЕ ЛПОФТПМЙТХЕЫШ.
- фЕВЕ ВЩМП ВПМШОП?
- чОБЮБМЕ ВПМШОП, ОП РПФПН ВПМШ ХЫМБ Й УФБМП РТЙСФОП. с ПЮЕОШ ИПТПЫП ЛПОЮЙМБ! фЕРЕТШ РП ПЮЕТЕДЙ ВЕЦЙН Ч ЧБООХА!
пОБ ЧУЛПЮЙМБ Й РПЫМБ Ч ЧБООХА. рПФПН УИПДЙМ С. нЩ ПДЕМЙУШ Й РТЙУЕМЙ ОБ ДЙЧБО.
- уЕТЕЦБ! оЕ ТБУУЛБЪЩЧБК ОЙЛПНХ ПВ ЬФПН. рПЦБМХКУФБ!
- оЙЛПЗДБ! с ЛМСОХУШ ФЕВЕ! оЙ ПДОПНХ ЮЕМПЧЕЛХ!
С ТБУУЛБЪБМ ПВ ЬФПН УЧПЕНХ ДТХЗХ ЧП ЧУЕИ РПДТПВОПУФСИ, ОБРЙЧЫЙУШ ЧПДЛЙ Й ТБЪНБЪЩЧБС УПРМЙ. юЕТЕЪ 6 МЕФ. рТБЧДБ, ФПК, ЛПНХ С ЛМСМУС, ХЦЕ ОЕ ВЩМП. чЕТОХЧЫЙУШ ЙЪ БТНЙЙ, С ХЪОБМ, ЮФП ПОБ ЧЩЫМП ЪБНХЦ. нХЦ ЕЕ ПЛБЪБМУС ОБТЛПНБО. й мЕОБ ФПЦЕ УФБМБ ОБТЛПНБОЛПК. б РПФПН УЙМШОП ПРХУФЙМБУШ Й ХНЕТМБ. пФ РЕТЕДПЪЙТПЧЛЙ. с ТБД, ЮФП НОЕ ОЕ РТЙЫМПУШ ХЧЙДЕФШ ЕЕ ПРХУФЙЧЫХАУС Й ОЕПРТСФОХА. ч НПЕК РБНСФЙ ПОБ ЧУЕЗДБ ПУФБОЕФУС ПЮЕОШ ЮЙУФПРМПФОПК Й БЛЛХТБФОПК. б ДП ФПЗП ЛБЛ НЕОС ЪБВТЙМЙ Ч БТНЙА, С ЙОПЗДБ РТЙИПДЙМ Л ОЕК.
лПЗДБ ОЙЛПЗП ОЕ ВЩМП ДПНБ. й НЩ У ОЕК «РПЧФПТСМЙ РТПКДЕООЩК НБФЕТЙБМ», ЖБОФБЪЙТХС Й РПЮФЙ ЛБЦДЩК ТБЪ РТЙДХНЩЧБС ЮФП-ФП ОПЧПЕ, МБЪБС ДТХЗ ДТХЗХ ЧП ЧУЕ ДЩТПЮЛЙ РБМШЮЙЛБНЙ Й ЪБГЕМПЧЩЧБС ЛБЦДХА ЛМЕФПЮЛХ ФЕМБ. й ОЙЛФП ОБН ОЙЛПЗДБ ОЕ РПНЕЫБМ. й ОЙЛФП ОЕ ПВТБФЙМ ЧОЙНБОЙС, ЮФП С ИПЦХ Л ОЕК, ЛПЗДБ НПЕЗП ФПЧБТЙЭБ ОЕФ ДПНБ.
х ОЕЕ ОБ НПЗЙМЕ РПЮФЙ ЧУЕЗДБ ЦЙЧЩЕ ГЧЕФЩ. ьФЙ ГЧЕФЩ РТЙОПЫХ С. ч ВМБЗПДБТОПУФШ ЪБ УБНЩЕ УЮБУФМЙЧЩЕ ДОЙ НПЕК АОПУФЙ.
н. уЕТЗЕЕЧ
ьФЙ Й НОПЗЙЕ ДТХЗЙЕ ЬТПФЙЮЕУЛЙЕ ТБУУЛБЪЩ чЩ ЧУЕЗДБ ОБКДЕФЕ ОБ ОБЫЕН УБКФЕ
В один пасмурный октябрьский день около свежей, только что зарытой могилы на Смоленском кладбище стояло двое детей — мальчик и девочка. Девочка опустилась на колени и, припав лицом к земле, громко рыдала. Мальчик с каким-то не то страхом, не то недоумением оглядывался кругом, и крупные слезы медленно текли по его бледному личику. К детям быстрыми шагами подошел высокий, толстый господин и, положив руку на плечо мальчика, проговорил далеко не ласковым голосом:
— Ну, полно плакать, ведь слезами все равно не воскресите мертвой, надобно скорей ехать, поезд отъезжает через три четверти часа! Маша, вставай!
Он взял за руку мальчика и, не взглянув даже, следует ли за ним девочка, быстрыми шагами направился к выходу с кладбища. Маша поднялась с колен, простояла несколько секунд неподвижно перед могилой, как бы не имея сил оторваться от нее, и затем, заметив, что спутники ее уже далеко, побежала догонять их.
Мужчина усадил детей в карету, ожидавшую их у входа кладбища, и, приказав кучеру ехать как можно скорее, сам уселся подле них.
— Дядя, разве мы не заедем к нам на квартиру? — несмелым голосом спросила девочка.
— Конечно нет, — отвечал мужчина. — Ты думаешь, мне есть время возиться тут с вами! И так уж целую неделю прожил задаром в Петербурге! Что вам там делать на квартире? Все вещи убраны, чемоданы ваши сданы в багаж, а остальное я поручил продать.
После этих слов, произнесенных голосом, не выражавшим желания продолжать разговор, в карете воцарилось молчание. Лошади неслись быстро и скоро остановились у вокзала Николаевской железной дороги. До отхода поезда оставалось всего пять минут. Мужчина поспешно взял билеты, втолкнул детей в один из вагонов третьего класса, а сам направился ко второму классу. Дети уселись рядом в уголку. Поезд тронулся. Девочка огляделась: кругом все были люди незнакомые, занятые своими делами и не обращавшие на детей ни малейшего внимания.
— Как я рада, что он не сел с нами! — проговорила она со вздохом облегчения. — Он ужасно гадкий! Правда ведь, Федя?
— Хорошо еще, что он богатый! — отвечал мальчик. — Няня рассказывала, что у него есть свой большой дом и свои лошади. Ты думаешь, он мне позволит покататься на его лошадке, Маша?
— Не знаю; все равно он злой. Он не плакал о мамаше. Я его не люблю.
— Не говори так громко, Маша, — предостерег мальчик, робко озираясь кругом, — он, пожалуй, услышит и рассердится.
— Пусть себе сердится! — вскричала девочка. — Если бы мама знала, какой он, она не отдала бы нас ему!
Девочка закрыла лицо руками и заплакала.
— Маша, не плачь, милая, — проговорил мальчик, ласкаясь к сестре. — Ведь мама не велела нам плакать, ты помнишь? Разве ты хочешь не слушаться мамы?
Маша вытерла лицо и сделала над собой усилие, чтобы удержать слезы.
— Федя, — сказала она через несколько секунд молчания, взяв брата за руку, — а ты помнишь, что еще велела нам мама?
— Помню, — отвечал мальчик. — Она велела нам любить друг друга. Я тебя очень люблю, Маша.
— И я тебя тоже. Я тебя всегда любила, а теперь буду любить еще больше. Я ведь старше тебя, мне уже одиннадцать лет, а тебе еще нет десяти, я буду заботиться о тебе и никому не позволю обижать тебя, никому!
Мальчик положил голову на плечо сестры и прижался к ней, как бы отдаваясь под ее защиту, она же обняла его и посмотрела на него с видом нежного покровительства.
Маша и Федя Гурьевы лишились отца, когда были совсем крохотными детьми. До сих пор им ни разу не приходилось оплакивать эту потерю, благодаря нежной заботливости, с какой воспитывала их мать. Небольшое состояние, оставленное ей мужем, позволило Вере Ивановне Гурьевой окружить детей если не богатством, то полным довольствием и удовлетворять все их умеренные желания. Не зная нужды, всегда окруженные предусмотрительною, заботливою любовью матери, дети жили вполне счастливо, как вдруг их поразило совершенно неожиданное горе. В один холодный весенний день Вере Ивановне пришлось ехать по делам за город, она простудилась и заболела. Сначала болезнь не представляла ничего серьезного, так что она не обратила на нее внимания, продолжала выезжать и заниматься детьми как ни в чем не бывало. Это, конечно, усилило нездоровье, и, когда дней через десять она слегла в постель, приглашенный доктор прямо объявил, что болезнь очень серьезна. Дети сильно огорчились нездоровьем матери, ухаживали за ней насколько могли, старались как можно меньше беспокоить ее, но мысль об опасности вовсе не приходила им в голову. Через месяц Вере Ивановне сделалось, по-видимому, лучше. Она встала с постели и начала даже понемножку приниматься за хозяйство и за занятия с детьми. Доктор советовал больной немедленно отправиться куда-нибудь на юг, но она и слышать об этом не хотела.
— Я теперь совсем здорова, только немножко слаба, — говорила она тихим, прерывающимся голосом, — вот перееду на дачу, так там поправлюсь.
Но дача принесла ей мало пользы. Летом она еще держалась кое-как на ногах, а в сентябре месяце окончательно слегла в постель. Чувствуя приближение смерти, она написала в Р* к брату своего мужа, единственному близкому родственнику детей, прося его приехать и принять участие в судьбе бедных сирот. Григорий Матвеевич отвечал, что не замедлит приехать, как только позволят дела, и приехал за два дня до смерти невестки. Тяжело было Вере Ивановне прощаться с жизнью, невыносимо тяжело расставаться с нежно любимыми детьми! Она почти не знала брата своего мужа, но с первого взгляда на его жесткое лицо, при первых звуках его грубого, резкого голоса она почувствовала, что он не в состоянии заменить отца сиротам.
— Будьте добры к ним, — умоляла она его, сжимая своими бледными, исхудавшими пальцами его широкую мускулистую руку. — У вас ведь есть свои дети… их отец был вашим братом… в память о нем не оставьте его сирот!
— Да полноте, что вы волнуетесь, — отвечал Григорий Матвеевич, — с чего вы умирать-то вздумали? Небось выздоровеете, сами их вырастите, ну, а коли что случится, конечно, ведь не злодей же я, не брошу их.
«Может быть, он добрее, чем кажется», — со вздохом думала больная, и эта мысль усладила ей последние минуты жизни.
Во время своей болезни Вера Ивановна несколько раз принималась заговаривать с детьми о своей смерти и старалась приготовить их к разлуке.
— Скоро меня не станет, милые мои, — говорила она им, — вы останетесь на свете сиротами, без отца и без матери. Любите друг друга как можно сильнее, старайтесь во всем помогать друг другу, поддерживать один другого… Маша, ты старше, заботься о брате, пока он маленький, а ты, Федя, будешь мужчиной, будешь сильнее сестры, ты и теперь благоразумнее ее, защищай ее… не давайте друг друга в обиду злым людям.
— Мама, мама, не говори так, — рыдала Маша, прислонившись головой к подушке матери. — Ты не умрешь, а если ты умрешь, то и я умру с тобой.
— Зачем даваться в обиду, — рассуждал Федя в ответ на слова матери, — меня никто не обидит: я маленький, я никому не делаю зла.
Несмотря на то что в последние недели своей жизни Вера Ивановна не раз заводила с детьми подобные разговоры, смерть ее показалась им чем-то невероятным, неожиданным. Они со страхом поглядывали на бледный, холодный труп, лежавший на большом столе среди столовой, и не узнавали на безжизненном лице покойницы черт своей милой, дорогой матери. Все, что делалось вокруг них, казалось им каким-то тяжелым сном. Дядю они почти не видали; он заходил к ним на несколько минут, отдавал приказания прислуге и опять уходил, почти не обращая внимания на племянников. Накануне похорон он сказал им:
— Завтра я вернусь домой, и вы поедете со мной. Я велел горничной уложить ваши вещи; пожалуйста, не тащите с собой разной дряни, у меня и без вас много хламу в доме.
Детям хотелось узнать подробнее о том, куда именно и как они поедут, но дядя отвернулся и ушел прочь, не отвечая на их вопросы.
Мы видели, что и после похорон их матери он обращался с ними не более ласково, так что Маша имела право считать его недобрым и жалеть о том, что мать поручила ее и Федю именно ему.
Путешествие по железной дороге развлекало детей и заставляло их по временам забывать о своем горе. На станциях, где были большие остановки поезда, дядя подходил к ним, провожал их в буфет, давал им есть и пить и затем снова усаживал их в вагон, не говоря с ними ничего, кроме самого необходимого. Когда настала ночь, детям стало страшно в плохо освещенном вагоне, сон клонил их, а между тем они не могли заснуть, сидя на жестких деревянных скамейках и слыша вокруг себя беспрерывные разговоры соседей.
— Как здесь гадко, Маша, — жаловался Федя. — Я хочу спать, а мне не на что положить голову!
— Положи ее ко мне на плечо, голубчик, — предложила Маша, — может быть, так ты заснешь.
— А ты, Маша?
— Я все равно не буду спать. Мне так страшно и так грустно!
Федя положил голову на плечо сестры и скоро заснул крепким сном, но Маша не спала. Горькие, печальные мысли проносились в голове девочки. То вспоминалась ей счастливая жизнь с матерью, то думалось о той судьбе, какая ждет ее в доме сурового дяди. Маша знала, что у этого дяди была жена и дети, но не имела никакого понятия о том, каковы они.
«У такого злого человека и вся семья должна быть злая!» — говорила она сама себе. В памяти ее проносились все, когда-нибудь читанные ею сказки о злых тетках, преследовавших несчастных племянниц, и она дрожала при мысли о бедствиях, ожидавших ее и ее брата.
Весь следующий день дети провели в дороге и только поздно вечером приехали в Р*. Путешествие до того утомило их, что они оба едва держались на ногах, и Григорий Матвеевич принужден был за руку подвести их к карете, ожидавшей их у дебаркадера. Через четверть часа езды по отвратительной мостовой карета остановилась у подъезда небольшого двухэтажного каменного дома. Выбежавший слуга отворил дверцы экипажа, подобострастно приложился губами к руке Григория Матвеевича и помог ему вылезть из кареты, льстиво приговаривая:
— Слава тебе господи, наконец-то вы пожаловали, батюшка.
В дверях дома показалась со свечой в руке толстая, румяная горничная, которая точно так же почтительно поцеловала руку барина, и не успел Григорий Матвеевич пройти первых пяти ступеней широкой лестницы, как навстречу ему бросилась высокая худощавая женщина с темными локончиками, очень некрасиво обрамлявшими ее желтые, впалые щеки.
— Братец, голубчик, — заговорила она сладеньким голосом, — как я рада! Уж мы без вас совсем соскучились.
Григорий Матвеевич пожал руку сестры, вовсе не показывая, что ее любезный прием сколько-нибудь тронул его.
— А где же дети и Анна Михайловна? — спросил он, поднимаясь дальше по лестнице.
— Деточки спят, Анна Михайловна не позволила им дожидаться вас; Володенька очень просился, хотел вас встретить, и я говорила, как же не дать ребенку повидаться с отцом: ведь шутка сказать, больше недели не виделись, ну, Анна Михайловна, конечно, на своем поставила; она и сама, кажись, спала, не знаю, может, теперь встала.
В просторной передней лакей и горничная бросились снимать с Григория Матвеевича пальто, калоши, кашне и даже перчатки, и затем он, в сопровождении сестрицы в локончиках, вошел в ярко освещенную столовую, среди которой стоял большой стол, накрытый для чая и ужина. У окна, прислонившись лбом к холодному стеклу, стояла еще молодая женщина, маленького роста, худощавая, с бледным, болезненным лицом. Услыша шум отворившейся двери, она слегка вздрогнула, быстрыми шагами пошла навстречу вновь прибывшего и протянула ему руку, стараясь вызвать на лице своем ласковую улыбку. Григорий Матвеевич слегка коснулся губами ее лба и проговорил сквозь зубы:
— Ишь, встретить даже не могла! — и затем обратился к двери, в которую вошли в эту минуту сироты, робко пробиравшиеся вслед за ним. — Вот, — сказал он, указывая на них сестре и жене, — гостей вам привез, радуйтесь, своих ребят мало.
— Это дети Сергея Михайловича? — спросила сестра.
— А то чьи же? Их маменька изволила назначить меня их опекуном, есть что опекать! И состоянья-то всего на башмаки им не хватит! Вот я и возись теперь с ними!
— Бедные малютки, — проговорила Анна Михайловна и, подойдя к детям, крепко поцеловала их обоих.
Эта ласка, первая в чужом доме, до того тронула Машу, что она готова была броситься на шею тетки и выплакать свое горе на груди ее, но ее остановил суровый голос дяди.
— Что же это ты, матушка, с ума сошла, что ли! — закричал он на жену. — Будешь тут с ребятами возиться, а мужу с дороги и поесть нечего!
— Сейчас, сейчас, братец, — вмешалась девица в локонах. — Я велю вам подать закуску, не извольте сердиться, все будет в одну минуту. — И она чуть не бегом вышла из комнаты, между тем как Анна Михайловна принялась переставлять на столе посуду, — видимо, для того только, чтобы показать, что и она хлопочет.
Через несколько секунд лакей внес в комнату большой шипящий самовар, за ним появилась горничная, неся в руках огромный поднос, уставленный всевозможными закусками, а сзади нее выступала сестра с двумя бутылками водки.
— Кушайте, братец, — обратилась она к Григорию Матвеевичу. — Я нарочно велела приготовить вам поросеночка со сметаной, вы ведь любите, а вот цыплятки жареные. Выкушайте сперва рюмочку померанцевой, с дороги это вас подкрепит.
— Спасибо, спасибо, хоть ты обо мне позаботишься.
Григорий Матвеевич выпил рюмку водки, уселся к столу и принялся есть с величайшим аппетитом. Сестра сидела рядом с ним, угощала его и старалась всячески услужить ему. Анна Михайловна заваривала чай. На детей никто не обращал внимания, они стояли в дверях комнаты, усталые, голодные, несчастные. Первая вспомнила о них Анна Михайловна.
— Надобно бы дать и детям поесть, они, я думаю, проголодались с дороги, — заметила она несмелым голосом.
— Так что же ты смотришь, — отозвался Григорий Матвеевич, — покорми их.
Анна Михайловна ласково усадила детей подле себя, дала им жаркого, хлеба с маслом и чаю. Бедняжки были до того утомлены, что с трудом глотали куски.
— А куда ты их уложишь сегодня? — спросил Григорий Матвеевич, удовлетворив свой аппетит и принимаясь за чай.
— Уж я, право, не знаю, — ответила Анна Михайловна. — В детской тесно, внизу не топлено… Вот если бы Глафира Петровна позволила им переночевать у себя в кабинете…
— Помилуйте, как же я могу не позволить, — с притворным смирением отвечала Глафира Петровна. — Ведь вы в доме хозяйка, вы, может быть, прикажете мне отдать деточкам свою постель, а самой лечь на полу, так я и это могу, только…
— Полно вздор болтать, — прервал ее Григорий Матвеевич. — Никто не просит тебя ложиться на полу, спи себе на своей кровати, а от комнаты твоей не убудет, если дети переночуют там раз. Им можно постлать перину на пол, они всячески заснут. Распорядись, Анна!
Анна Михайловна вышла из комнаты и через несколько минут вернулась за детьми. Ни Маша, ни Федя не помнили, как тетка подвела их проститься с дядей, как она проводила их в предназначенную им спальню, сама раздела и уложила их на большую перину, постланную для них в одном из углов комнаты Глафиры Петровны. Сон одолел их, и этот благодетельный сон скоро заставил их забыть и усталость, и все пережитые неприятности, и страх за будущее.
Глава II. Первый день в новой семье
На другой день детей разбудила горничная.
— Вставайте, господа, поскорее, Глафира Петровна и без того сердится, что вы их комнату заняли, — сказала она, слегка расталкивая спавших.
Дети вскочили так быстро, как никогда не вскакивали в доме матери, и поспешили одеться с помощью услужливой горничной; они были почти совсем готовы, когда в комнату вошла Анна Михайловна.
— Ну что, хорошо ли вы спали, голубчики? — спросила она, целуя детей еще ласковее, чем накануне.
Они отвечали ей, что спали как убитые.
— А что, Дуняша, — обратилась она к горничной. — Ведь надо бы дать им чего-нибудь покушать, они, я думаю, голодны, до обеда-то долго ждать.
— Уж я, право, не знаю, — отозвалась Дуняша. — Надобно спросить у Глафиры Петровны.
— Ах, нет… как тут быть?.. от детского чаю ничего не осталось?
— Помилуйте, сударыня, да что же там может остаться, ведь вы сами знаете, сколько им дают.
По лицу Анны Михайловны видно было, что она очень хорошо знала, и сделала свой вопрос только для того, чтобы что-нибудь сказать.
— Послушай, Дуняша, — обратилась она к горничной шепотом. — Сходи-ка ты к Глафире Петровне, попроси ее, скажи, что ведь нельзя же морить голодом чужих детей, пусть даст чего-нибудь… Ты принеси ко мне в комнату, я их туда возьму!
Маша и Федя слышали весь этот разговор от слова до слова, и, конечно, он не мог привести их в хорошее расположение духа. Маша готова была отказаться от завтрака, который приходилось выпрашивать с таким трудом, но голод начинал сильно мучить бедную девочку, почти ничего не евшую за ужином.
Анна Михайловна привела детей в свою комнату, одна половина которой, отделенная шерстяной драпировкой, служила спальней, а другая представляла что-то вроде не то уборной, не то маленькой гостиной и была уставлена самой разнообразной мебелью. Едва дети успели усесться на низенький диванчик подле тетки и ответить на несколько вопросов ее о их прежней жизни, как в комнату вошла Дуняша, неся в руках две чашки теплой воды, слегка разбавленной чаем, почти без сахара и два тоненьких ломтика булки. Анна Михайловна, не ожидавшая, что ее племянники получат даже такой скудный завтрак, видимо, очень обрадовалась; но дети, привыкшие дома к другого рода пище, вовсе не разделяли ее радости, хотя из деликатности не сказали, что им хотелось бы чего-нибудь посытнее и повкуснее.
— Ну, теперь, — сказала Анна Михайловна, когда они выпили чай и Дуняша унесла пустые чашки, — я вас сведу в детскую, вы там познакомитесь с моими детьми.
Детская была маленькая комнатка, помещавшаяся рядом с кухней, на конце длинного коридора. В ней стояли три кровати, большой комод, платяной шкаф, длинный стол, и все эти вещи до того загромождали всю комнату, что в середине ее не оставалось и двух квадратных аршин пустого пространства. При входе детей им представилась сцена еще менее привлекательная, чем то место, где она происходила. Два мальчика лет десяти и двенадцати дрались самым отчаянным образом, нанося друг другу удары по чем попало. Маленькая девочка лет шести, вероятно перепуганная этою дракою, влезла на кровать и громко плакала.
— Боже мой, дети, вы опять деретесь! — вскричала Анна Михайловна, бросаясь к мальчикам. — Как вам не стыдно! Володя, перестань! Лева, оставь его!
Но дети, не обращая внимания на увещания матери, продолжали колотить друг друга. Вдруг старший, собравшись с силами, толкнул брата, и тот упал на пол, стукнувшись головой об стол.
— Господи, ведь ты этак убить его можешь! — закричала Анна Михайловна, бросаясь к младшему сыну. Она подняла его, прижала к груди своей и с ужасом смотрела на огромное красное пятно на его лбу.
— А он сам зачем меня всегда задевает, — отозвался старший мальчик, — вон он как мне исцарапал руку! — И он показал матери широкую царапину, из которой еще слегка сочилась кровь.
— Так ведь ты старший, тебе бы надо учить его, останавливать, а ты сам хуже его.
— Нет, неправда, не хуже! Вы так говорите потому, что он ваш любимец, а вот я папе пожалуюсь, как он меня исцарапал.
— А я и это скажу папе!
Младший мальчик уже сжал кулаки и собирался с новой яростью накинуться на брата, но в эту минуту в комнату вошла Глафира Петровна.
— Что же вы, Анна Михайловна, — обратилась она к невестке. — Здесь глупостями занимаетесь, а там братец сердится, что дети не идут к нему.
— Слышите, дети, пойдемте же к папе, — сказала Анна Михайловна, обрадовавшись, что хоть таким образом драка детей на время прекратится. Она взяла на руки маленькую девочку, успокоившуюся несколько по приходе матери; впереди всех побежал старший мальчик, за ним неохотно последовали Маша и Федя, а сзади всех остался младший мальчик.
Григорий Матвеевич только что встал с постели, хотя уже был двенадцатый час утра, и сидел в столовой, угощаясь кофе и сытным завтраком. Он казался в хорошем расположении духа и, завидев детей, ласково сказал им:
— А, здорово, ребятки, наконец-то вы пришли повидаться с отцом!
— Папа! — закричал Володя, первый подбегая к отцу. — Посмотри, как Левка исцарапал меня! — И он протянул отцу свою исцарапанную руку.
Брови Григория Матвеевича нахмурились.
— Ты опять буянишь, волчонок, — произнес он строгим голосом, обращаясь к младшему сыну, — иди сюда!
Мальчик подошел на несколько шагов; он стоял, опустив голову и смотря на отца исподлобья злым, сердитым взглядом.
— Волчонок, как есть волчонок! — сквозь зубы проворчал Григорий Матвеевич и затем закричал, грозно топнув ногой — Смотри мне в глаза, когда я с тобой говорю, негодяй, подними голову!
Лева не шевельнулся.
— Подними же голову, говорят тебе!
Он схватил мальчика за волосы и насильно поднял ему голову. Лева опустил глаза, и по упрямому выражению его лица видно было, что его ничем не заставить взглянуть на отца. Григорий Матвеевич понял это.
— Пошел вон с глаз моих, — закричал он, — не смей показываться мне, упрямый негодяй! — Он толкнул мальчика к дверям так сильно, что тот едва устоял на ногах, и затем, обращаясь к Анне Михайловне, проговорил злобным голосом — Хорош твой любимчик, нечего сказать!
Анна Михайловна смотрела на всю эту сцену с выражением страха и беспокойства. Она не сказала ни слова на замечание мужа, только тяжело вздохнула и украдкой оттерла слезу, навернувшуюся на глазах ее.
— А ты что же не здороваешься с отцом? — обратился Григорий Матвеевич к своей маленькой дочери, которая, напуганная его гневом, спрятала голову в складки платья матери.
— Иди, Любочка, не бойся! — сказала Анна Михайловна, подводя к мужу девочку.
— Дура! Отца родного боится! — заметил Григорий Матвеевич, сунув дочери руку для поцелуя.
Затем пришла очередь Маши и Феди. Им также дядя сунул руку для поцелуя, и они должны были приложиться губами к этой руке. Маша с трудом скрывала свое отвращение, а Федя, напуганный всем предыдущим, постарался произнести самым почтительным голосом:
— Здравствуйте-с, дяденька-с! — за что был награжден благосклонной улыбкой Григория Матвеевича.
После этой церемонии детям приказано было вернуться в детскую. Левы там не было, и никто не заботился о том, куда девался мальчик, выгнанный из комнаты отцом. Володя и Любочка с любопытством разглядывали своих незнакомых родственников.
— Вы те папины племянники, у которых мать была больна и к которым ездил папа? — спросил Володя.
— Да, те, — отвечала Маша.
— Что же, вы навсегда у нас будете жить?
— Должно быть, навсегда.
— А, ну, я этому рад! Будем вместе играть, а то мне не с кем. Люба маленькая, а Левка такой злой, все дерется!
Володя с удивлением посмотрел на свою двоюродную сестру. Он, видимо, вовсе не ожидал с ее стороны такого ответа.
— А ты также не будешь играть со мной? — обратился он к Феде.
— Нет, отчего же? Я буду! — отвечал Федя, боявшийся всех и всего в этом доме.
— Ну, вот и отлично! — обрадовался Володя. — А ты и сиди одна, коли ты такая дура, — обратился он к Маше.
Девочка, не обращая внимания на его дерзость, подошла к Любочке и начала расспрашивать ее об ее игрушках. Любочка тотчас же показала ей все свои сокровища, состоявшие из тряпичной куклы, безногой лошадки, двух баночек из-под помады и маленькой красненькой коробочки. Маша попробовала было устроить игру и с этими скудными игрушками, но Володе досадно было, что сестры не обращают на него внимания, он подбежал к их уголку и ногами раскидал в разные стороны все их вещи. Любочка горько заплакала.
— Вот теперь я тебя считаю еще больше злым! — вскричала Маша, и краска гнева разлилась по лицу ее. — Ты можешь обижать маленькую девочку, которая не сделала тебе никакого зла!.. Не плачь. Любочка, милая, — обратилась она к бедной малютке, — сядем сюда на кровать, я тебе расскажу сказочку.
Обе девочки уселись на кровать, и Маша принялась шепотом рассказывать какую-то длинную, смешную сказку, слышанную ею от матери. Володя не трогал их, но он старался как можно больше шуметь, чтобы мешать им. Феде очень хотелось послушать, что рассказывает сестра и отчего так весело смеется Любочка, но он не смел отойти от двоюродного брата, который, радуясь, что нашел себе покорного товарища, повелительно покрикивал на него и даже иногда довольно неделикатно дергал его за руку.
В комнату вошла Глафира Петровна.
— Маша, Федя! Придите-ка ко мне на минутку! — позвала она детей голосом, который удивил их своею ласковостью.
Они вошли за ней в ее комнату.
— Что вы, я думаю, голодны? — обратилась она к ним. — Анна-то Михайловна не больно угостила, а? Ну, садитесь сюда на диванчик, кушайте! — И она подала им по большому куску хлеба с маслом и сыром.
Дети с жадностью накинулись на эту неожиданную закуску и принялись быстро ее уничтожать.
Глафира Петровна смотрела на них с полусострадательной, полунасмешливой улыбкой.
— Что, я сытее кормлю, чем Анна Михайловна? — снова заговорила она, когда куски их уже подходили к концу. — То-то, помните это, детки: будете меня уважать да слушаться, так у вас все будет, что нужно, а станете лезть к Анне Михайловне, так насидитесь голодными.
— Да разве не Анна Михайловна наша тетя? — несколько робким голосом спросила Маша.
— Ты глупа, как я вижу, — отвечала Глафира Петровна. — Конечно, она вам тетка, потому что она жена вашего дяди, да ведь и я вам не чужая, я двоюродная сестра вашего отца и Григория Матвеевича, значит, также вам тетка. Смотрите, помните это: забудете, вам же хуже будет! Я не люблю дерзких, непослушных детей, да и Григорий Матвеевич им спуску не дает: видели сегодня, что было Леве, хорошо?
Дети стояли молча, опустив голову.
— Ну, что же вы молчите? — продолжала Глафира Петровна. — Скажи, Феденька, — обратилась она к мальчику, — будешь ты меня любить и уважать?
— А ты, Маша?
— Я буду вас слушаться, — вздохнула Маша.
Эти уверения успокоили Глафиру Петровну.
— Ну, хорошо, будьте умники, и вам хорошо будет, — сказала она, поглаживая детей по головке. — Идите теперь в детскую и не ссорьтесь с Володинькой. Смотрите, никому не пересказывайте, о чем мы тут говорили!
Дети с облегченным сердцем вышли из комнаты Глафиры Петровны, но прежде, чем вернуться в детскую, зашли в темный коридорчик, где никто не мог видеть их, и уселись в уголок на полу поговорить о своих делах.
— Как здесь гадко, Федя! Правда ведь? — шепотом произнесла Маша.
— Да, ужасно гадко, — согласился и Федя, — все здесь злые.
— Только Анна Михайловна не злая, — заметила Маша. — А ты, Федя, зачем сказал, что будешь любить Глафиру Петровну, когда она гадкая?
— Ну, уж, я все-таки буду больше любить Анну Михайловну, чем ее, — решила Маша.
— Федя, Федя, где же ты? Тетя, куда вы девали Федю? Федя, иди же играть!
— Я пойду к нему, а то он, пожалуй, прибьет меня! — испуганным голосом произнес мальчик и бросился навстречу своему двоюродному брату.
Маша осталась одна в темном уголку. У бедной девочки было так тяжело на сердце, что ей не хотелось никому показываться. Она закрыла лицо руками и долго плакала горькими, безутешными слезами.
За обедом все семейство опять соединилось в столовой. Один только Лева не являлся, и опять никому не пришло в голову поинтересоваться, где скрывается бедный мальчик.
Все кушанья ставились перед Григорием Матвеевичем, и он выбирал для себя самые лучшие куски, вовсе не заботясь о том, что остается другим. Детям накладывала Глафира Петровна, причем порции Володи были обильнее и лучше всех прочих. Анна Михайловна ела мало и неохотно: видно было, что она нездорова, хотя ничего не говорит о своей болезни. Вообще обед шел молча; одна только Глафира Петровна прерывала молчание, то делая строгое внушение Любочке о том, как надо держать ножик и вилку, то уговаривая «братца» скушать еще кусочек, то ядовито замечая Анне Михайловне: «Что вы ничего не кушаете? Вам, верно, не нравятся простые кушанья? А я нарочно заказала по вкусу братца…»
После обеда должен был прийти учитель, который каждый день два часа занимался с Володей и Левой русским и латинским языком, арифметикой и грамматикой.
— А мы будем учиться, дядя? — спросила Маша.
Григорий Матвеевич задумался.
— Да, ведь вот и учить их еще надо! — проговорил он недовольно. — Ну, нечего делать. Федя пусть учится вместе с нашими мальчиками, учителю все равно что двух, что трех учить! А с девочкой хоть ты займись? — обратился он к жене.
— Чем же я займусь, я сама ничего не знаю! — печальным голосом проговорила Анна Михайловна.
— Ну, вот еще! Что знаешь, тому и научишь, невелика мудрость ей нужна! Французскому же учишь мальчишек!
— Да я только по-французски и помню немножко!
— Полноте, Анна Михайловна, — вмешалась Глафира Петровна, — уж что же вам не потрудиться немножко для сиротки! Ведь не чужая она вам, племянница вашего мужа!
— Да я готова… — начала Анна Михайловна.
— Ну, так и толковать нечего, — решил Григорий Матвеевич, — как я сказал, так и будет!
К уроку отыскали наконец Леву. Оказалось, что он спал где-то на сеновале и явился к учителю с заспанным лицом, с сеном в волосах, с тем же угрюмым видом, какой был у него утром. Учитель, длинный, сухой, молодой человек, с огромным носом, рыжими бакенбардами и тонкими, плотно сжатыми губами, начал спрашивать заданные уроки. Оказалось, что ни один из мальчиков ничего не знал. Вообще они, видимо, считали ученье вполне бесполезной вещью: Лева машинально исполнял все, что ему приказывал учитель, думая о чем-то совсем другом; Володя смотрел по сторонам, зевал и беспрестанно поглядывал на часы: скоро ли конец урока? Федя, привыкший у матери учиться прилежно, резко отличался от своих двоюродных братьев и сразу заслужил расположение учителя. Хотя он был моложе Володи и Левы, но, исключая латинского языка, знал из всех предметов больше их. Видя, что он один внимательно слушает объяснения, учитель обращался в конце класса исключительно к нему одному. Это предпочтение очень польстило мальчику, и он решил удвоить прилежание, чтобы всегда заслуживать похвалы учителя.
Урок Маши шел иначе. Анна Михайловна позвала ее в свою комнату, велела ей принести туда ее книги, посмотрела их, удивилась, что Маша уже так много знает, и затем сказала со вздохом:
— Я, право, не знаю, душенька, как и чему тебя учить. Твоя маменька была, должно быть, очень образованная женщина, а меня учили только двум вещам: играть на фортепьяно да говорить по-французски. Фортепьян у меня нет с тех пор, как я замужем, так что музыку я забыла, а по-французски я еще помню и каждое утро учу своих мальчиков. Я и тебя готова учить вместе с ними, а теперь ты лучше почитай мне что-нибудь из твоих книжек, я и Любочку позову, пусть она также послушает.
Любочка уселась на маленькую скамейку у ног матери и внимательно слушала чтение. Анна Михайловна откинула голову на спинку кресла и закрыла глаза с видом крайнего утомления. Маша стала читать один рассказ, который очень нравился ей самой, и в первый раз со дня смерти матери она почувствовала себя спокойно и привольно. Ей бы так хотелось всегда сидеть в этой тихой комнатке, полуосвещенной маленькой лампой под зеленым колпаком, подле этой кроткой женщины с бледным болезненным лицом! Но вот раздался громкий голос Володи, означавший, что урок кончен; нужно было закрыть книгу и идти в столовую пить чай.
Григория Матвеевича не было дома, чай разливала Анна Михайловна, а Глафира Петровна сидела подле нее и зорко следила, чтобы она не дала детям ничего лишнего.
Володя выпил одну чашку и попросил другую, мать налила ему, а тетка пододвинула ему второй кусок булки. Через несколько секунд Лева также захотел второй чашки, Анна Михайловна уже собиралась наливать ему, когда Глафира Петровна остановила ее:
— Что это, как вы балуете мальчика! — заметила она. — Где это видано, чтобы дети пили по нескольку чашек чаю!
— Да ведь Володя же пьет, — попробовала возразить Анна Михайловна.
— Что же такое, Володя. Володя старше, а Леве вовсе не след давать, и братец то же скажет!
— Не пей, Левенька, ты ведь и не хочешь? — обратилась Анна Михайловна к сыну просительным голосом.
— Тебе сказано нельзя, так и нечего просить, — строго, внушительно заметила Глафира Петровна.
— Я говорю с мамой, а не с вами! — дерзко отвечал мальчик.
— Каково! Это он так говорит с теткой! — вскричала Глафира Петровна, и желтое лицо ее покрылось краской гнева. — А вы, Анна Михайловна, слышите и даже не остановите его!
— Лева, как тебе не стыдно! — заметила мать.
— Не мне стыдно, а ей, зачем она мешается в чужие дела, — возразил мальчик.
— Отлично, прекрасно! — кричала Глафира Петровна. — Вот как вы позволяете вашему сыну говорить со старшими! После этого мне остается только уйти отсюда, а то этот негодяй, пожалуй, прибьет меня!
Она с шумом поднялась с места и направилась к дверям. Анна Михайловна с испуганным лицом бросилась удерживать ее и упрашивать простить глупого мальчика.
— Лева, — прибавила она затем, стараясь придать голосу своему как можно больше строгости, — поди прочь отсюда, ты не умеешь вести себя порядочно!
— Ну, что же, уйду, — заметил мальчик. — Вы думаете, очень интересно сидеть с вами! — И он вышел из комнаты, сильно хлопнув дверью.
Глафира Петровна возвратилась на свое место, но по лицу ее было видно, что она все еще сердится; Анна Михайловна была взволнована, никто не говорил ни слова, и чай был отпит в молчании.
Пока дети брали урок, Глафира Петровна озаботилась устроить им помещение. Поставить их кровати в тесную детскую не было никакой возможности. В нижнем этаже дома были устроены парадные гостиные для приема гостей и кабинет Григория Матвеевича; обратить одну из парадных комнат в просторную детскую казалось нелепостью и для Григория Матвеевича, и для его сестрицы. Она распорядилась так: на месте Любочкиной кроватки в детской устроила постель для Феди, а для спальни двух девочек предназначила маленькую полутемную комнату, служившую складом всевозможного хлама. Хлам оттуда вынесли, поставили туда две кровати, два стула со сломанными спинками, старый деревянный стол, комод для белья — и вот комната была отделана.
Тяжело вздохнула Маша, оглядев эту отделку, прежде чем ложиться спать; закоптелый потолок, оборванные обои на стенах, старая поломанная мебель — все это делало комнату далеко не красивой. Одно утешало девочку: как ни плоха ее спальня, это все-таки уголок, который она может считать своим, где двоюродные братья не будут надоедать ей, где она может заниматься, чем хочет. Любочка была просто в восторге оттого, что ее поместили в одной комнате с Машей. Бедная малютка, боявшаяся и отца, и тетки, и братьев, сразу полюбила приласкавшую ее сестру и считала для себя величайшим счастьем оставаться с ней подальше от буйных мальчиков.
Глава III. Различие характеров
Мы нарочно так подробно описали первый день жизни сирот в доме их родственника, потому что этот один день может дать полное понятие о судьбе, ожидавшей их. Не только Маша, но даже маленький Федя сразу поняли, как неприятна будет эта судьба. Трудно было найти семейство, где домашняя жизнь была бы устроена хуже, чем у Григория Матвеевича. Сам Григорий Матвеевич никогда не думал о том, чтобы доставить своим домашним сколько-нибудь счастья; он хлопотал об одном только: как бы самому не терпеть отказа во всех своих прихотях да роскошнее принимать гостей, для которых раза три-четыре в год открывались парадные гостиные его дома; до остального ему не было дела. Анна Михайловна, кроткая, добрая, но слабая, болезненная женщина, страдала от грубости мужа, от недостатков детей, но не имела сил что-либо изменить в своем положении. Всем в доме управляла Глафира Петровна, хитрая, злая женщина, успевшая лестью и угодливостью до того заслужить расположение своего двоюродного брата, что он на все глядел ее глазами. Каждое утро являлась она в его кабинет с донесениями о всем, что происходило в доме накануне, и в этих донесениях худо приходилось всякому, кто осмеливался оказать ей непочтение или неповиновение. Она не щадила даже Анны Михайловны и детей, и им нередко приходилось подвергаться грубым проявлениям гнева Григория Матвеевича, не подозревая причины этого гнева, так как Глафира Петровна никогда не сознавалась в своих наговорах. Одно только существо в целом мире искренно любила эта злая женщина: это был Володя. После рождения своего старшего сына Анна Михайловна была тяжело больна и мальчика отдали на попечение тетки. Глафира Петровна рассказывала, что он родился необыкновенно слабым, болезненным существом и только благодаря ее заботам остался жив. Вероятно, вследствие этих забот она привязалась к своему воспитаннику и сильно баловала его. Анне Михайловне она совсем не позволяла вмешиваться в воспитание мальчика.
— Что же такое, что вы его мать, — отвечала она на ее кроткие заявления. — Не вы с ним нянчились, а я, он скорее мне обязан жизнью, чем вам, — и при всяком удобном случае восстановляла ребенка против матери.
Володя был от природы мальчик не злой, но испорченный баловством тетки и дурным примером отца. Видя, как грубо Григорий Матвеевич обращается со всеми окружающими, он также был груб к тем, кого считал ниже и слабее себя; привыкнув к тому, что никто в доме не слушался Анны Михайловны, он и сам не обращал на нее никакого внимания; даже с теткой, действительно любившей его, он часто был очень дерзок, зная, что она готова все простить ему. Особенно часто не ладил он с своим младшим братом Левою. Леву все вообще в доме считали мальчиком злым, упрямым, и действительно, он всегда выглядел угрюмым, надутым, всегда старался всякому сделать какую-нибудь неприятность. Бедный ребенок не был виноват в своих недостатках. Ему не посчастливилось найти себе такую сильную покровительницу, какою была для Володи Глафира Петровна. Он вырос на руках матери, которая готова была отдать жизнь за своего любимого сына, но не имела достаточно силы, чтобы защитить его от тех обид и несправедливостей, какие ему пришлось переносить. Глафира Петровна боялась, чтобы Григорий Матвеевич не полюбил своего второго сына больше старшего, и потому не упускала случая наговаривать ему на Леву, уверяя его, что мать невыносимо балует ребенка и непременно сделает из него негодяя, если он будет вполне предоставлен ей. Вследствие этого Григорий Матвеевич начал муштровать бедного мальчика и строго наказывать его за разные воображаемые проступки, когда он еще и не понимал, что значит наказание. Ребенок невзлюбил отца, и Анне Михайловне стоило большого труда подводить его к Григорию Матвеевичу. Сделавшись старше, мальчик стал замечать, что его брату живется в доме гораздо лучше, чем ему: Володя всегда был одет чисто, даже нарядно, за обедом ему доставались более вкусные кусочки, и часто после обеда он грыз прянички или орехи; отец никогда не бил его, иногда только, рассердясь, высылал вон из комнаты, и тогда Глафира Петровна спешила утешить его лакомствами или подарками. Лева, напротив, должен был питаться объедками, ходить в старых обносках брата и за малейший проступок выносил от отца самые строгие наказания. Мать, правда, любила его, любила страстно, но ее ласки не утешали, а еще больше раздражали его. Когда она украдкой, таясь от мужа, от Глафиры Петровны, даже от прочих детей, пробиралась в темный уголок, где он сидел озлобленный, оскорбленный, часто даже избитый, с нежностью прижимала его к груди своей и осыпала поцелуями его голову, лицо и даже руки, он чувствовал не благодарность к ней, а досаду.
— Оставь меня, мама! — говорил он, вырываясь из ее объятий.
— Да отчего же оставить? — спрашивала бедная мать. — Разве ты меня не любишь. Лева? Разве ты не видишь, как мне тебя жаль?
— Если бы тебе было жаль, ты не позволяла бы папе бить меня!
— Да как же я могу не позволить, милый мой? Что же мне делать? — чуть не с отчаянием спрашивала Анна Михайловна.
— Не знаю, — угрюмо отвечал мальчик. — Ты большая, ты должна это знать, спроси у Глафиры Петровны, она небось не позволяет обижать Володю.
— И я бы рада не давать тебя в обиду, мое сокровище! Да что же мне делать, если я не могу!
— А не можешь, так оставь меня, ты мне не нужна! — И мальчик отворачивался от матери, а она, шатаясь от горя, с трудом добиралась до своей комнаты и там долго рыдала, уткнув голову в подушку.
Чем старше становился Лева, тем чаще происходили подобные разговоры между ним и матерью его. Кончилось тем, что Анна Михайловна перестала ласкать его, и бедный мальчик рос совсем одинокий, заброшенный, ненавидя всех окружающих, стараясь всем без разбора мстить за тс неприятности, какие терпел от отца и от тетки, делаясь с каждым днем все более и более злым и упрямым, все более и более заслуживая прозвание Волчонка, данное ему отцом.
Для Маши и Феди переход от мирной, спокойной жизни, какую они вели в доме матери, к тяжелой обстановке в доме дяди был слишком резок. Первые дни они как-то растерялись, пугливо приглядывались ко всему окружающему и не могли сообразить, как вести себя относительно родственников. Но скоро оказалось, что им нельзя жить у дяди так беззаботно, как они жили у матери: в семействе Григория Матвеевича всякий, даже маленький ребенок, должен был заботиться сам о себе, должен был сам хлопотать, как бы не попасть в беду, как бы защитить себя от нападений других. Здесь было мало слушаться старших, здесь надо было выбрать, кого из старших слушаться, так как Глафира Петровна очень часто расходилась с желаниями Анны Михайловны и, кроме того, нередко требовала от детей несправедливых и нехороших поступков.
Раз утром, дня через три по приезде детей из Петербурга, Володя и Лева, выпив скорее прочих свою порцию чаю, стояли у окна и смотрели на пробегавших мимо них школьников. Остальные дети еще сидели за столом около Глафиры Петровны. Вдруг Володя каким-то неловким движением руки ткнул локтем в стекло, и оно треснуло. В эту самую минуту в комнату вошел Григорий Матвеевич и послал Глафиру Петровну куда-то по хозяйству.
— Не сметь выдавать Володю, — шепнула она Маше и Феде, быстро уходя исполнить приказание братца.
Григорий Матвеевич тотчас же заметил случившуюся беду.
— Это кто сделал? — обратился он к двум мальчикам, в смущении не успевшим отбежать от окна. — Говорите сейчас! Ты, что ли, Володька?
— Нет, папа, не я! — проговорил испуганным голосом мальчик.
— Так ты, Волчонок?
— Неправда, не я! — мрачно процедил сквозь зубы Лева.
— Чего там не я! — закричал Григорий Матвеевич. — Кроме вас двух некому! Признавайтесь у меня тотчас! Ну, Володька, чего ты молчишь?
— Да это не я, папа, право, не я! — уверял мальчик.
— Значит ты, негодяй! — И Григорий Матвеевич уже замахнулся, чтобы ударить младшего сына, как вдруг маленькая ручка Маши удержала его руку.
— Дядя, — проговорила девочка дрожавшим от волнения голосом, — не трогайте Леву, не он разбил окно, а Володя.
— Володя? Так чего же ты отпираешься, дрянной мальчишка? — вскричал Григорий Матвеевич, хватая за ухо старшего сына.
В эту секунду Глафира Петровна вернулась в комнату.
— Братец, простите его, он нечаянно, — тотчас же заступилась она за своего любимца. — Володичка, стань на колени, проси у папы прощенья!
Володя опустился на колени и прерывающимся голосом повторял:
— Прости, папа, прости!
Смирение сына, видимо, понравилось Григорию Матвеевичу.
— Ну, чего перепугался, дурак, — проговорил он значительно смягченным голосом, — не убью тебя, небось! На этот раз, так и быть, прощу, только смотри у меня, коли опять сшалишь что-нибудь, вдвое накажу, так и знай!
Он дал мальчику поцеловать руку в знак помилования и вышел вон из комнаты.
— Кто же это пожаловался на Володеньку? — обратилась к детям Глафира Петровна, как только дверь за ним закрылась.
— Дядя хотел бить Леву, — оправдывалась Маша, — а ведь Лева же не был виноват, я оттого и сказала.
С этих пор Маша попала в немилость к Глафире Петровне. Девочка, привыкшая в доме матери вести себя хорошо, не делала ничего, заслуживающего наказания, но злая тетка постоянно находила предлог, чтобы придраться к ней и сделать ей строгое замечание: то она сидела не так, как следует, то глядела дерзко, то ничего не делала, то слишком много читала и тому подобное. Машу не особенно огорчали эти замечания. Она с первого взгляда невзлюбила Глафиру Петровну и всячески старалась держаться как можно дальше от нее. Большую часть дня она проводила в своей полутемной комнатке вместе с Любой, сильно привязавшейся к ней. Бедная Любочка была слабенькая, нервная, болезненная девочка. Она боялась всего и всех в доме, никогда не играла с другими детьми и была в высшей степени рада, что ей можно спокойно сидеть подле Маши, перебирая свои тряпочки и не слыша ни криков, ни брани. Самыми приятными часами для Маши были теперь те часы, когда к мальчикам приходил учитель, а она являлась со своими книжками в комнату Анны Михайловны под предлогом занятий с ней. На самом деле Анна Михайловна ничему не учила, да и не могла учить ее. Она сама получила очень плохое образование и давно перезабыла почти все, чему училась в детстве. По приказанию Григория Матвеевича она каждое утро давала детям уроки французского языка, но уроки эти были мучением для учительницы и не приносили никакой пользы ученикам. Анна Михайловна решительно не умела преподавать, и даже Маша и Федя, привыкшие у матери заниматься очень прилежно, не могли у нее ничему научиться; Володя же и Лева проводили все время урока в ссорах, драках или пустых разговорах. Иногда для водворения порядка являлась в комнату Глафира Петровна; она наказывала Леву, уводила к себе Володю и делала Анне Михайловне колкие замечания, приводившие в слезы бедную женщину. Занятия с Машей пошли иначе. Обыкновенно девочка для виду раскладывала свои книги и тетради на столе, а сама усаживалась на маленькой скамеечке у ног тетки и читала ей что-нибудь из своих старых книг или просто разговаривала с нею. Маша рассказывала о своей прежней жизни, о матери, о петербургских знакомых, Анна Михайловна слушала ее с самым участливым вниманием и в свою очередь рассказывала ей о своем детстве, о том богатом доме, где она жила с отцом, обожавшим свою единственную дочь, о том беспомощном положении, в каком она осталась после смерти отца, и о том, как Григорий Матвеевич уговорил ее сделаться его женой, обещая любить и баловать ее не меньше отца, о том, как грустно и тяжело ей жить теперь и как ей хотелось бы поскорей умереть. Слушая ее тихие, грустные речи, Маша сама часто плакала и, прижимая к губам бледные, исхудалые руки бедной женщины, чувствовала к ней невыразимую жалость. Ей горячо хотелось хоть чем-нибудь облегчить неприятное положение тетки, она готова была за нее вступить в борьбу и с дядей, и с Глафирой Петровной, и со всеми в доме, но Анна Михайловна убедительно просила ее не заступаться за себя, доказывая, что этим она еще больше испортит дело, и девочка скрепя сердце молчала, хотя глаза ее гневно блистали при всякой грубой выходке Григория Матвеевича, при всякой колкости Глафиры Петровны. Не имея возможности заступаться за тетку. Маша старалась выказывать ей свое внимание разными мелкими услугами, к которым бедная женщина вовсе не привыкла. При входе в комнату Анны Михайловны она спешила подать ей стул, она бросалась поднимать те вещи, которые та нечаянно роняла, она следила за ней глазами и пользовалась всяким удобным случаем, чтобы избавить ее от труда и предупредить ее желания.
— Федя! — вскричала Маша, вбегая в комнату, где брат ее прилежно учил урок. — Брось книгу и помоги мне поискать ключи тети Анны, она их потеряла и ужасно беспокоится.
— Неужели же ты не хочешь помочь ей, Федя! — вскричала девочка, удивляясь неуслужливости брата.
— Не хочу, да и тебе нечего помогать ей, разве ты не видишь, как тетя Глаша сердится за то, что ты все услуживаешь тете Анне.
— Так и пусть себе сердится! Мне все равно! Я ее не люблю, я люблю тетю Анну.
— А посмотри, Маша, какой у меня перочинный ножичек, хорош?
— Да, очень хорош. Откуда ты его взял?
— Мне его подарила тетя Глаша, вчера. А сегодня она попросила у дяди, и он позволил нам с Володей покататься в его хорошеньких санках! Вот ты не любишь тети Глаши, зато тебе и приходится целый день сидеть в темной комнате, а я всюду буду ездить с Володей!
Мальчик отложил в сторону книгу и, не обращая более внимания на сестру, побежал к своему двоюродному брату, уже несколько раз кликавшему его.
Маша задумалась. Она и раньше замечала, что Феде живется в доме гораздо лучше, чем ей. В первые дни Федя угождал всем окружающим из страха перед чужими, да к тому же еще неласковыми людьми. Но он скоро заметил, что невыгодно услуживать Леве или Анне Михайловне и, напротив, очень выгодно услуживать Глафире Петровне и Володе. Володя, находя в нем покорного товарища во всех своих играх, делился с ним своими лакомствами и постоянно хвалил его тетке, а Глафира Петровна была очень довольна почтительностью мальчика и охотно награждала его за его уступчивость ее любимцу. Таким образом, Федя пользовался почти всем наравне с Володей. Он мог играть и бегать в комнате Глафиры Петровны, мог во всякое время дня попросить поесть, когда был голоден, мог не только не бояться строгих наказаний Григория Матвеевича, но даже пользоваться от него некоторыми милостями, вроде позволения покататься и тому подобное.
«Я буду угождать тете Глаше, — рассуждал про себя мальчик. — Пусть она меня полюбит, как теперь любит Володю, даже больше, тогда я уже не стану слушаться Володи, я буду сам делать, что хочу, и дядя никогда не будет бранить меня, он и теперь говорит, что я хороший мальчик».
Маша не знала этих рассуждений брата, но ей неприятно было его поведение, хотя она сама не могла отдать себе отчета почему. Она радовалась, что его не бьют, не обижают, не морят голодом, но ей грустно было видеть его постоянную уступчивость Володе и, главное, его почтительную услужливость Глафире Петровне.
«Хорошо было бы, — мечтала иногда девочка, — если бы на свете и вправду жили те добрые волшебницы, о которых пишут в сказках. Я готова была бы идти на край света, чтобы отыскать такую волшебницу и упросить ее превратить Григория Матвеевича и Глафиру Петровну в каких-нибудь гадких лесных зверей. Как бы хорошо было без них! Тетя Анна распоряжалась бы всем в доме и была бы здорова, Любочка не боялась бы никого, Леву мы так ласкали бы, что он полюбил бы нас, и Володя понемножку сделался бы добрым мальчиком. Только, может быть, волшебница захотела бы и меня превратить во что-нибудь? Ну что же, это ничего! Я согласилась бы быть какой угодно тварью, только бы тете Анне и всем было хорошо».
Глава IV. Семейный праздник
В последних числах декабря был день рождения Григория Матвеевича. День этот праздновался в семье Гурьевых с необыкновенною торжественностью. За неделю парадные комнаты начинали протапливаться и проветриваться, чехлы, покрывавшие шелковую мебель гостиных, снимались, мебель чистилась и выколачивалась, полы мылись и натирались воском, во всем доме шла суматоха непомерная. Маша и Федя привыкли, живя с матерью, часто видеть гостей. Но этих гостей принимали просто, без всяких приготовлений, стараясь занять их приятным разговором, а вовсе не поразить убранством комнат. В доме Григория Матвеевича, напротив, праздник рождества прошел незаметно — так все были заняты мыслью и заботою о предстоящем торжестве. Глафира Петровна целые дни то разъезжала за покупками, то бегала по всему дому, хлопая дверьми, браня прислугу за нерасторопность и отдавая тысячу приказаний; Григорий Матвеевич находил, что все делается не так, как следует, и сердился на все и на всех; Анна Михайловна ходила как потерянная из угла в угол, сильно суетилась, но, очевидно, без всякой пользы; детям то приказывали помогать прислуге в уборке комнат, то, напротив, загоняли их в детскую и бранили за то, что они мешаются не в свое дело. Вся эта возня до того надоела Маше, что она ушла вместе с Любочкой в свою комнату и целых два дня выходила оттуда только к обеду и к чаю. Она не заботилась даже о том, как одеться в торжественный день, и предоставила Глафире Петровне рыться в своих вещах и устроить ей туалет. Федя иначе отнесся к делу. Сначала он старался помочь Глафире Петровне в ее хлопотах, но, видя, что услуги его принимаются неохотно, стал делать свои собственные приготовления к празднику. Он слыхал, что дети часто говорят наизусть и пишут на бумаге поздравительные стихотворения родителям и старшим родственникам ко дню их рождения или именин, и ему казалось кстати поднести подобное приветствие Григорию Матвеевичу. Долго перебирал он все свои и Володины книги, стараясь найти в них что-нибудь подходящее к случаю, и наконец в одной старой книге отыскал стихотворение под заглавием: «Старшему родственнику и благодетелю». Федя вовсе не считал Григория Матвеевича своим благодетелем и не чувствовал к нему ни той «нежной благодарности», ни того «глубокого уважения», о которых говорилось в стихотворении; но ничего более подходящего к случаю он не мог найти и потому решил воспользоваться хоть этим. Он твердо выучил наизусть довольно длинные и бестолковые стихи, затем выпросил у Глафиры Петровны лист почтовой бумаги и старательно, как мог красивее, переписал их. Никто не подозревал затеи мальчика: Володя и Лева, интересуясь возней в парадных гостиных, почти все время проводили там. Маша сидела в своей комнате, а старшим было не до него. Он сильно волновался, не зная, понравится ли дяде его выдумка, но не хотел рассказывать о ней даже сестре; ему почему-то казалось, что Маша не одобрит ее.
Наконец настал торжественный день. Гости должны были начать съезжаться к завтраку, но уже с раннего утра все комнаты были приведены в порядок, а Анна Михайловна и Глафира Петровна шуршали толстыми шелковыми платьями. Детей тщательно причесали и разодели: Федя надел хорошенький костюм, сшитый для него матерью; Володе Глафира Петровна позаботилась приготовить новенькую куртку, для Левы вычистили и зачинили старое платье брата, девочек одели в белые кисейные платья с бантами на головах и у пояса, и бедная Любочка с утра дрожала при мысли о том, сколько чужих, незнакомых людей придется ей видеть в этот ужасный день. В девять часов утра детям приказали идти в кабинет поздравлять Григория Матвеевича. Федя незаметно сунул в карман свое поздравление и с сильно бьющимся сердцем пошел за двоюродными братьями. Григорий Матвеевич был ради праздника веселее обыкновенного. Он с улыбкой поблагодарил детей за их поздравления и почти ласково поцеловал их. Последним подошел Федя.
— Позвольте мне, дядя… — проговорил мальчик смущенным голосом, подал свою бумагу и, став в позу, начал несколько робким голосом произносить приветственное стихотворение.
Григорий Матвеевич сначала удивился, затем стал с видимым удовольствием слушать Федю. Это ободрило мальчика, и он произнес последние строчки твердо, ясно, даже с чувством.
— Молодец! — вскричал Григорий Матвеевич, когда он кончил. — Молодец! Кто это тебя выучил?
— Никто-с, дяденька, я сам-с.
— Неужели никто? И написал сам?.. Отлично! Не ожидал я этого от тебя!.. Осрамил вас, — обратился Григорий Матвеевич к своим сыновьям, — не подумали небось потешить отца? А?
Володя смущенно опустил голову.
— Лгун! — проговорил Лева, мрачно косясь на Федю.
— Что ты сказал? — переспросил у мальчика Григорий Матвеевич, мрачно нахмурив брови.
— Что он лгун, — нимало не робея повторил Лева. — Называет вас благодетелем, чтобы подлизаться! Ведь он знает, что вы ему не благодетель.
— Дерзкий мальчишка! Ты, пожалуй, сегодня и при гостях этак же скажешь!
— А что мне ваши гости!
— Экий негодяй! Даже в такой день не почтил отца… Глафира Петровна! Глаша!
Глафира Петровна была всегда готова явиться на зов брата.
— Возьми ты, ради бога, этого мальчишку, — обратился к ней Григорий Матвеевич, — запри его в какой-нибудь чулан на весь сегодняшний день, а то он осрамит нас при добрых людях.
Глафире Петровне поручение это было очень приятно; она тотчас же схватила за руку Леву и увлекла его за собой.
Когда мальчик исчез, лицо Григория Матвеевича снова прояснилось.
— Ну, племянник, за то, что ты уважил меня, — сказал он, ласково улыбаясь, Феде, — вот тебе от меня рубль серебром на гостинцы, — он протянул ему рублевую бумажку. — Я тебя заставлю сегодня при гостях сказать твои стихи, смотри не осрамись!
— Нет, дяденька, я постараюсь! — проговорил Федя, с радостью и смущением поглядывая на свое неожиданное богатство.
— Федя, зачем ты это сделал? — сказала брату Маша, когда дети вышли из кабинета и в ожидании гостей отправились в свою комнату. — Зачем ты выучил эти глупые стихи. Из-за них наказали Леву!
— Да разве я виноват, что Лева такой дерзкий, — отозвался недовольным голосом Федя. — Я не хотел сделать ему зла, право, не хотел, Маша, я думал только, как бы угодить дяденьке!
— Так ты хоть бы попросил за него прощенья, дядя доволен тобой и, может быть, для тебя простит его!
— Нет, он рассердится, я не стану просить, Маша, я боюсь!
Гости начали съезжаться в двенадцатом часу. В большой столовой внизу накрыта была роскошная закуска; детям приказано было сойти туда же и вести себя хорошенько. Во время закуски никто не обращал на них внимания, но после, когда гости разместились в гостиных и занялись разговорами, им нельзя было дольше оставаться незамеченными. Володя подошел к одному кружку охотников и с блистающими глазами прислушивался к рассказам о разных охотничьих подвигах. Любочка отвечала на ласки и расспросы дам, желавших поговорить с нею, молчанием или слезами и пользовалась всяким удобным случаем, чтобы спрятаться за кадки цветов или за двери; Маше в другое время было бы, пожалуй, приятно наблюдать за всею этою толпою незнакомых ей людей, она была девочка не дикая и любила общество, но в этот день ее мучила мысль о бедном Леве, запертом в темном чулане, и кроме того, ей было очень неприятно слышать, что Глафира Петровна говорила о ней гостям:
— Это бедная сиротка, братец взял ее к себе после смерти ее матери.
Ей тяжело было слышать, что она живет из милости у недоброго дяди, ее мучили сострадательные взгляды разных барынь; несколько раз ей хотелось расплакаться или убежать наверх в свою комнату, но она боялась, что Глафира Петровна поднимет шум и осрамит ее при всех; она всеми силами старалась сдерживаться и с нетерпением ожидала конца этого мучительного дня. Федя между тем наслаждался успехом своей выдумки приветствовать дядю стихами. Григорий Матвеевич заставил его несколько раз повторить эти стихи гостям, написанное им поздравление переходило из рук в руки, все хвалили его, все восхищались им.
— Ишь какой умный мальчик! — заметил один старый генерал, ласково трепля его по щеке. — Надо вам его скорей в гимназию отдать, Григорий Матвеевич, а то дома обленится, пожалуй: что за ученье дома!
— Как же-с, непременно надо отдать… Вот осенью своего сына отдам, так и его уж вместе.
— Добрый вы человек, Григорий Матвеевич!
— Да ведь нельзя-с, не чужие они мне, дети родного брата.
И Григорий Матвеевич, чтобы показать свою доброту перед гостями, беспрестанно подзывал к себе Федю и ласково заговаривал с ним, а Федя, приписывая это внимание своим собственным заслугам, немало радовался и гордился ими.
К обеду приехало еще больше гостей. Детям позволено было остаться в столовой и даже обедать за общим столом. Большие, занятые едой и шумными разговорами, не обращали на них внимания, и Маше удалось спрятать под салфетку и затем осторожно опустить в карман два пирожка и кусок жаркого. Как только кончился обед, продолжавшийся более часу, и девочка заметила, что Глафира Петровна ушла разливать кофе, она тотчас юркнула вон из комнаты и побежала отыскивать Леву. Чуланов в доме было немало, и Маша не сразу нашла тот, в котором был заперт бедный мальчик. Левина тюрьма оказалась холодною, пустой кладовкой на черной лестнице с маленьким отверстием под потолком, заменявшим окно.
— Лева, голубчик, — сказала Маша, подойдя к чулану, — хочешь есть, я тебе принесла пирожков и жаркого.
— Лучше бы ты мне принесла чем-нибудь покрыться, а то я прозяб как собака, — угрюмо отвечал Лева.
— Я сейчас принесу, а пока бери вот это.
С помощью веревки и большой палки Маша просунула в окошечко чулана принесенную ею провизию, затем сбегала в свою комнату, притащила оттуда свое теплое одеяло и большой байковый платок и препроводила их также узнику.
— Ну, что, лучше ли тебе теперь будет? — спросила она чрез несколько секунд, напрасно подождав от мальчика выражения благодарности или хоть удовольствия.
— Конечно, лучше! — отозвался Лева. — Хоть заснуть можно. И пирожки недурны, жаль только, что мало ты притащила, есть все хочется.
— Я больше не могла, Лева.
— Ну, ладно.
Лева не сказал больше ни слова, и Маша, простояв еще несколько минут у дверей чулана и чувствуя, как холод проникал ее сквозь легкое платьице, вернулась в гостиную.
Этот день не остался без последствий ни для брата, ни для сестры. Григорий Матвеевич не забыл удовольствия, доставленного ему Федей, и стал сильно благоволить к нему.
— Это мальчик умный и, главное, благодарный, — заметил он Глафире Петровне, — его надо приласкать, он это будет чувствовать.
Глафира Петровна сначала несколько дулась на Федю за то, что он своим поздравлением затмил ее любимца, но, слыша похвалы ему от «братца», не осмелилась выказывать своего неудовольствия. Федя был по-прежнему почтителен к ней и услужлив к Володе, так что в скором времени окончательно примирил ее с собой.
— Вот, Маша, — говорил мальчик сестре, через несколько дней после празднества, — ты говорила мне, зачем я учил стихи дяденьке, а видишь, как хорошо вышло: меня все похвалили, теперь и дядя, и тетя Глаша любят меня; тебя бранят, ты целый век будешь сидеть в темной комнатке с Любочкой, а я хожу в гости вместе с Володей и осенью поступлю с ним вместе в гимназию!
Маша не нашлась, что ответить на эти слова брата. Она смутно чувствовала, что не может и не хочет подражать ему даже для того, чтобы улучшить свою жизнь, которая действительно была очень неприятна, но не могла решить, кто поступает лучше, — она или брат. Для нее также день рождения Григория Матвеевича не остался без последствий. На следующее утро за чаем Лева шепнул ей:
— Пойдем со мной на чердак, я тебе там покажу одну вещь.
Маше очень интересно было посмотреть, что это за вещь лежит на чердаке, но ее особенно удивило приглашение Левы, который до тех пор почти никогда ничего не говорил с ней. Как только можно было незаметно улизнуть из комнаты, она тотчас же бросилась к двери на чердак и не без некоторого волнения поднялась по крутой скрипучей лестнице.
Чердак представлял очень большое полутемное пространство, заваленное разным хламом, покрытое сором и паутиной. При входе туда стоял Лева; он взял Машу за руку и привел ее в угол, где на куче грязных тряпок лежало четверо маленьких недавно родившихся котят. Маше зверьки эти необыкновенно понравились, она села подле них, взяла их к себе на колени, гладила и целовала их.
— Благодарю тебя. Лева, что ты показал мне их, — обратилась она к брату. — Я теперь буду всякий день приходить любоваться ими.
— А старая ведьма возьмет да и запрет тебя в чулан, как меня вчера! — отозвался Лева.
Маша поняла, кого он называет «ведьмой», и лицо ее омрачилось.
— Она очень злая, — проговорила девочка печально. — Если бы на свете были волшебницы, они, наверно, превратили бы ее в дикого зверя и выгнали бы в лес.
— Ну, я теперь пойду вниз, — довольно грубым голосом проговорил он, — нечего тут больше делать!
Маша последовала за ним по крутой лестнице и на прощание еще раз поблагодарила его.
С этих пор Лева уже не чуждался ее, как прежде. Он часто зазывал ее с собой на чердак, а иногда даже сам заходил в ее комнату, разговаривал с ней или еще охотнее слушал ее разговоры и рассказы. Леве хотелось разговаривать с одной только Машей, и он сердился на Любочку, которая постоянно сидела в комнате; раз даже он так грубо оттолкнул бедную девочку, что та упала и пребольно ушиблась. Это возмутило Машу. Она подбежала к малютке, нежно обняла ее и затем, обращаясь к Леве со сверкающими от гнева глазами, вскричала:
— Злой мальчик! Когда ты вырастешь большой, ты будешь точно такой, как твой отец, так же будешь всех мучить!
— Вовсе я не злой! — смущенно отвечал Лева. — Я никогда не трогаю тех, кто мне не мешает, а она мне мешает; я хочу говорить с тобой, а она суется!
— Да где же ей быть, если ты выгонишь ее отсюда, — сказала Маша более мягким голосом. — Там ее беспрестанно бранят и пугают, смотри, какая она тихая и робкая, совсем не похожа на других детей! Мы с тобой сильнее и умнее ее, будем вместе защищать ее от других — хочешь?
Лева ничего не отвечал, но с этих пор он перестал грубо обращаться с Любой и даже несколько раз приносил ей разные щепочки и коробочки, служившие игрушками малютке.
Глава V. Богатый родственник
С тех пор как Маша и Федя жили в доме дяди, прошло полтора года. За это время почти ничего не изменилось в жизни семейства Григория Матвеевича. Мечта Феди поступить с осени в гимназию не осуществилась: Володе не хотелось учиться, и вследствие этого Глафира Петровна убедила брата, что не стоит тратиться на плату за мальчиков в учебное заведение, когда они могут отлично учиться дома у своего дешевенького учителя. Федя несколько раз пытался заговаривать с дядей о гимназии, но Григорий Матвеевич сухо отвечал ему, что сам знает, куда и когда отдать его, так что мальчик, больше всего боявшийся рассердить старших, не смел больше заводить неприятный дяде разговор.
С одной только Машей, и то тайком, втихомолку говорил он о своем горе.
— Должно быть, дядя хочет, чтобы мы на всю жизнь остались неучами, — жаловался он сестре. — Вон у нашего соседа два сына, оба учатся в гимназии, один сделается адвокатом и будет наживать столько же денег, сколько его отец, а другой хочет быть доктором и ездить в своей карете, на своих лошадях, как Франц Осипович. Счастливые они! А что я буду делать, как вырасту? Все говорят, что без образования трудно зарабатывать деньги. Вот и придется всю жизнь жить в бедности! Хотелось бы тебе. Маша, уехать в Петербург и там учиться?
— Да, мне хотелось бы учиться, только не знаю, я думаю, я не уехала бы отсюда…
— Не уехала бы? Разве тебе здесь так хорошо?
— Какое хорошо! Ты сам видишь, каково мне! Только я думаю, что тете Анне, и Леве, и Любе будет без меня еще хуже, чем теперь.
— И ты бы согласилась остаться здесь для них?
— Я думаю, что согласилась бы.
Федя посмотрел на сестру, как на сумасшедшую, и не нашелся, что ответить ей.
А между тем Маша была права, говоря, что без нее жизнь и Анны Михайловны, и Левы, и Любы была бы тяжелее, чем при ней. Искреннее желание девочки облегчить участь окружающих не осталось бесплодным. Мы уже видели, какое влияние она оказывала на Леву. Влияния этого было, конечно, недостаточно, чтобы упрямого, озлобленного мальчика превратить в кроткого, любящего ребенка; Лева по-прежнему не умел прощать обид, по-прежнему ненавидел всех, кто поступал с ним несправедливо, но, благодаря Маше, он научился относиться с добротою и снисходительностью к слабым и беспомощным. Слезы и кроткие увещания матери уже не раздражали его, как прежде, он иногда даже с удовольствием сидел рядом с Машей в ее комнате, прислушивался к ее рассказам и вслух мечтал о том, как он вырастет большой и устроит ей спокойную, приятную жизнь.
Можно себе представить, как радовали эти мечты Анну Михайловну! Бедная женщина вовсе не верила в осуществление их, но ее утешала мысль, что ее любимец, ее дорогой Левушка любит ее, хочет заботиться о ней. Она чувствовала, что за эту любовь обязана Маше, сумевшей смягчить сердце мальчика; и как благодарна была она своей милой племяннице! Присутствие Маши было и в другом отношении полезно для Анны Михайловны. Григорий Матвеевич, в сущности, любил жену, но по грубости натуры не понимал, как нужно обращаться с таким слабым, болезненным созданием, как она. Он очень часто и сам оскорблял и другим позволял оскорблять ее, вовсе не подозревая того впечатления, какое производили на нее эти оскорбления, и часто лишал ее необходимого, потому что не догадывался о се нуждах. Анна Михайловна по своей кротости и деликатности страдала молча, никогда не упрекая мужа, никогда не жалуясь ему ни на что. Теперь Маша явилась ее заступницей. Девочка часто терпеливо переносила гонения Глафиры Петровны, направленные против нее самой, но не могла равнодушно видеть несправедливости относительно тетки. Она беспрестанно поднимала с домашними борьбу в защиту прав Анны Михайловны и, когда шум этой борьбы доходил до Григория Матвеевича, смело, горячо объясняла ему, в чем дело, и просила его помощи. Григорий Матвеевич хмурился, приказывал девочке молчать, высылал ее вон из комнаты, но не оставлял ее слов без внимания. Он строже прежнего взыскивал с прислуги за неисполнение приказаний жены, чаще говорил Глафире Петровне:
— Сделай, как хочет Анна, — и сам нередко воздерживался от слишком грубых выходок в присутствии Анны Михайловны и Маши. Помощником Маши в защите тетки являлся иногда Володя. Мы говорили и раньше, что это был мальчик вовсе не злой, но избалованный и легкомысленный. Обращаясь дерзко с матерью, он никогда не думал, насколько это огорчает ее; Маша первая объяснила ему, как дурно его поведение. Володя с первых дней невзлюбил своей двоюродной сестры, ни в чем не уступавшей ему, но когда Маша с пылавшими гневом щеками упрекала его в жестокости и несправедливости или со слезами на глазах умоляла его пощадить больную мать, он невольно одумывался, начинал следить за своими словами и поступками и становился добрее.
Любочка была совершенно предоставлена заботам Маши. Здоровье бедной девочки слегка поправилось, но она все-таки оставалась слабым, хилым, нервным ребенком. До приезда Маши она росла каким-то запуганным маленьким зверьком, вечно пряталась в самые темные уголки, вечно дрожала и плакала. Теперь в ее распоряжении была целая, хотя маленькая и дрянная, комната, где она могла свободно делать, что хотела, братья не обижали ее, а Глафира Петровна не видела ее почти целые дни и потому не могла часто бранить. Все это хорошо подействовало на малютку: она стала менее прежнего пуглива и плаксива, на щеках ее иногда появлялся легкий румянец, и Анна Михайловна с удовольствием замечала, что она иногда болтает и смеется, как другие дети ее лет.
Итак, Маша была права, говоря, что ее присутствие в доме необходимо. Но каково жилось ей самой в это время? Чтобы ответить на этот вопрос, стоит только взглянуть на нее. Из пухленького, розовенького ребенка, каким она была, выезжая из Петербурга, она превратилась в худощавую девочку с бледным лицом, побелевшими губами, с выражением постоянной тревоги в больших, темных глазах. Глафира Петровна ненавидела ее и выказывала эту ненависть на каждом шагу. Не проходило дня, чтобы Маша не выносила от нее самую грубую, оскорбительную брань; то она задавала девочке какую-нибудь трудную работу и требовала от нее самого тщательного исполнения этой работы, то уверяла всех и каждого, что она не способна ни к какому делу, и не позволяла ей ни до чего дотронуться. Даже пищей старалась она постоянно обделить ее, и Маше нередко приходилось утолять голод куском черствого хлеба, который из сострадания давала ей кухарка. Об одежде и говорить нечего. Девочка донашивала старые платья, сшитые ей матерью, и с трудом выпросила себе пару толстых башмаков, когда ее ботинки и галоши разорвались до того, что их нельзя было надеть на ноги. Часто Маша обливалась горькими слезами, лежа на своей жесткой, грязной постельке и вспоминая свою прежнюю жизнь с матерью, но когда Анна Михайловна обнимала ее и называла своим ангелом-утешителем, когда Любочка ласкалась к ней, когда Лева мечтал вместе с ней о том, каким он будет хорошим человеком, — она забывала свои собственные печали и ей казалось, что она не может уехать из этого дома.
В один майский день Григорий Матвеевич вошел с озабоченным видом и распечатанным письмом в руках в столовую, где все семейство ожидало его к обеду.
— Надобно приготовить три комнаты внизу, — обратился он к жене и к Глафире Петровне, — к нам едет из Сибири дяденька.
— Неужели дяденька Геннадий Васильевич? — с каким-то благоговением спросила Глафира Петровна.
— Да, вот что он пишет: «Довольно я потрудился на своем веку, пора отдохнуть: покончил все дела и теперь еду доживать свой век в Питер. По дороге заверну к тебе, племянничек, заглянуть на твое житье-бытье».
— Ну, что же, братец, — заметила Глафира Петровна, с умилением слушая этот отрывок письма, — такого гостя, как дядюшка, большое счастье принять в своем доме. Он человек почтенный, да и достатком его господь наделил.
— Еще бы, нам с тобой такого достатка и во сне не видать! Надобно чтобы все в доме было в порядке, пусть старик подольше поживет у нас. Кроме нас, у него ведь и родни нет!
Ожидание дорогого гостя произвело в доме еще большую суматоху, чем приготовления к празднованию дня рождения Григория Матвеевича. Для Геннадия Васильевича приготовили в первом этаже дома три комнаты, куда снесли самую удобную мебель со всего дома. Для услуг ему нанят был ловкий и расторопный лакей; в помощь кухарке, приготовлявшей незатейливые обеды Гурьевых, приглашен был повар, славившийся в городе своим искусством. Весь дом приведен был в порядок, прислуге приказано было строго-настрого служить как можно усерднее гостю.
— Уж ты, пожалуйста, Анюта, — упрашивал Григорий Матвеевич жену, — будь как можно любезнее с дядюшкой, брось свои кислые рожи, пока он здесь, смотри веселей да и детям закажи быть поласковее к нему.
Впрочем, к детям Григорий Матвеевич и сам обратился по этому случаю с краткою, но сильною речью:
— Слушайте, ребята! — сказал он им вечером накануне того дня, когда ожидали приезда гостя. — Завтра приедет дедушка, смотрите, целуйте у него ручку и будьте как можно почтительнее к нему. Если кто-нибудь осмелится сказать ему неприятное слово, я того засеку до полусмерти. Наперед предупреждаю!
Эта речь и волнение старших не могли не подействовать на детей. Володя с любопытством ожидал гостя, для которого делалось так много приготовлений; Маша с грустью думала об этом незнакомом родственнике, перед которым ей придется унижаться, чтобы избегнуть больших неприятностей; Любочка дрожала при одном имени деда и упрашивала мать запрятать ее куда-нибудь на все время, пока он будет в доме. Лева со злобой глядел на суету домашних и, только уступая слезным просьбам матери и Маши, обещал вести себя прилично; один Федя с удовольствием мечтал о дедушке.
— Он, должно быть, очень богат, — рассуждал мальчик, — гораздо богаче Григория Матвеевича, — я постараюсь угодить ему, может быть, он сделает что-нибудь для меня, устроит меня куда-нибудь.
Наконец настала торжественная минута: к крыльцу дома Гурьева подъехала дорожная карета, нагруженная подушками чемоданами, а из нее, ворча и тяжело опираясь на руки лакеев, вылез и сам Геннадий Васильевич. Григорий Матвеевич, Анна Михайловна и Глафира Петровна встретили его на лестнице и почтительно поцеловали его руку. Все дети сделали то же и тотчас же получили приказание удалиться, чтобы не беспокоить дедушку. Впрочем, Федя успел украдкой оглядеть лицо и всю фигуру родственника, от которого ожидал себе милостей. Это был невысокого роста, толстый старик, с красным одутловатым лицом, толстыми отвислыми губами, седой, плешивой головой и седыми же бровями, нависшими над маленькими серыми глазами. Вся внешность старика была такого рода, что внушала мало надежды на доброту, и Федя с грустным вздохом заметил это.
Действительно, угождать Геннадию Васильевичу и услуживать ему оказалось гораздо труднее, чем воображал Григорий Матвеевич. Геннадий Васильевич был богач, наживший миллионы не столько трудом, сколько предприимчивостью, и воображавший, что все должны преклоняться перед этими миллионами. Он не жалел денег на свои прихоти, не прочь был даже щедро наделить человека, умевшего угодить ему, но был так капризен и взыскателен со всеми окружающими, что даже Глафира Петровна, умевшая и любившая подслуживаться, говорила через два дня по приезде его:
— Почтенный человек дядюшка, нечего сказать, а уж только строг, беда, как строг, не придумаешь, как и приступиться к нему!
Анна Михайловна, почему-то понравившаяся капризному старику, должна была безотлучно оставаться при нем и утомилась до того, что через три дня с ней сделалась нервная лихорадка, которую она принуждена была тщательно скрывать.
К счастью для детей, на них дедушка совсем не обращал внимания, так что они могли спокойно сидеть в своих комнатах. Раз только Геннадий Васильевич позвал к себе Машу и Федю и начал расспрашивать их об их родителях.
Рассказывая последние дни жизни своей дорогой матери, Маша не могла удержаться от слез и громко разрыдалась. Это, видимо, тронуло старика. Он потрепал девочку по щеке и сказал ласковым голосом:
— Ну, полно, не плачь, не совсем вы сироты, коли у вас есть родные. Живете вы у доброго дяди, да и я вас не оставлю.
Федя воспользовался этим милостивым расположением дедушки. Из всех детей он один не только не избегал старика, а, напротив, старался почаще попадаться ему на глаза, исполнял его поручения, оказывал ему маленькие услуги.
— Славный мальчик, ловкий и к старшим почтительный! — несколько раз замечал Геннадий Васильевич, ласково глядя на него.
Старик прожил в доме племянника ровно неделю. Накануне отъезда он сделал хозяину и всему его семейству по небольшому подарку, а Машу и Федю позвал к себе в комнату.
— Вот что, детки, — сказал он им, — для вас я не припас подарков. Думается мне, что хотя дядя и тетка добры к вам, а все же они не отец с матерью, вам тяжело просить у них всякой безделицы. Я дам вам каждому по пятьдесят рублей. Деньги это большие, их пролакомить нельзя, а вы спрячьте их, да и тратьте понемножку на самые нужные вещи. На, вот тебе, Машенька!
— Благодарю вас, дедушка! — с искренностью сказала Маша и, поцеловав руку старика, поспешно вышла из его комнаты.
Федя не притрагивался к деньгам, которые подавал ему дедушка. Он стоял, опустив голову, сконфуженный и взволнованный.
— Чего же ты? Это тебе! — обратился к нему Геннадий Васильевич.
— А что же тебе нужно? — несколько нетерпеливо спросил Геннадий Васильевич. — Говори прямо, терпеть не могу, когда тянут слово за слово!
— Дедушка, окажите мне милость, отдайте меня в гимназию или в какое-нибудь заведение; мне уже двенадцатый год, а я здесь почти ничему не учусь; что же со мной будет, когда я вырасту!
— Ишь какой прыткий! — заметил Геннадий Васильевич, с удивлением глядя на мальчика. — Да ведь ты же учишься вместе с дяденькиными детьми?
— Учусь, да очень мало. Они богаты, им, может быть, и довольно, а я ведь бедный.
— Да, при бедности да необразование — это плохо, — задумчиво произнес старик. — Да как же мне тебя в гимназию-то отдать? — спросил он через несколько секунд молчания. — В Петербург, что ли, с собою взять?
— Дедушка, голубчик, возьмите! — вскричал Федя, бросаясь целовать руки старика. — Я вас буду так почитать, так вам угождать!
Старик задумался.
— Возня ведь большая с вами-то, ребятами, — произнес он как бы про себя.
— Со мной не будет возни, — уверял Федя, — я не шалю, как другие дети, спросите у дяденьки!
— Да, ты мальчик хороший, я и сам заметил; ну, что ж, пожалуй, поедем, и мне веселее будет жить не одному на старости лет; только смотри у меня, я добр-то добр, зато уж и строг, коли что дурное замечу, спуску не дам.
— Уж не беспокойтесь, дедушка, я постараюсь угодить вам.
Федя еще несколько раз поцеловал руку старика в знак благодарности и вышел от него, вполне довольный успехом своего плана.
Пока Федя таким неожиданным образом устроил перемену в свой судьбе, Маша с сияющим радостью лицом показывала Анне Михайловне полученный подарок.
— Целых пятьдесят рублей, тетя! — говорила она. — Знаете, что мы на них сделаем? Мы отправим Любочку в деревню на все лето. За пятьдесят рублей доктор возьмет ее, помните, он говорил? Дядя позволит, ведь это будет отлично, не правда ли?
— Да ведь это же твои деньги, моя милая, с какой же стати ты их истратишь на Любочку?
— Э, тетя, не все ли равно! Ведь доктор говорил, что Любочке непременно надо пожить в деревне, чтобы поправиться. Подумайте, как будет хорошо, когда она вернется к нам осенью розовенькая и веселенькая!
— Хорошо-то оно хорошо, да ведь тебе самой нужны деньги, голубчик; смотри, у тебя башмаки рвутся, платья нет порядочного, лучше ты себе что-нибудь купи!
— Нет, тетя, нисколько не лучше! Какое же платье может быть лучше Любочкиного здоровья! Пожалуйста, милая тетя, сделайте мне удовольствие, возьмите у меня эти деньги. Я как обрадовалась, когда дедушка подарил мне их! Мне сейчас пришла в голову Любочка!
— Григорий Матвеевич не позволит взять у тебя подарок дедушки, — проговорила Анна Михайловна голосом, в котором слышалось колебание: искушение возвратить здоровье дочери было слишком сильно для нее.
— А вы ему не говорите! Ведь он не хочет давать денег на Любочкино леченье: говорит, что это вздор; пусть он думает, что доктор взял ее бесплатно, вы так и доктору скажите — так ведь, тетя? Вы это сделаете?
— Да уж я, право, не знаю, — совсем нерешительным голосом сказала Анна Михайловна и не противилась, когда Маша всунула ей деньги в карман.
В тот же вечер всему дому стало известно, что Геннадий Васильевич увозит Федю с собой в Петербург. Григорий Матвеевич был очень рассержен этим; при старике он не высказывал своих чувств, но когда Геннадия Васильевича не было в комнате, упрекал Федю в неблагодарности. Глафира Петровна также злилась: ей, во-первых, было досадно, что не ее любимец попал в милость к старику; во-вторых, она жалела Володю, который горько плакал, теряя товарища. Анна Михайловна с состраданием смотрела на отъезжающего.
— Тяжело тебе там будет жить, бедняжка! — шепнула она Феде, прощаясь с ним на ночь. — Не лучше ли бы тебе остаться?
— Нет уж, тетенька, я лучше поеду: что делать, как-нибудь стерпится! — отозвался мальчик.
Маша проплакала весь вечер при мысли о разлуке с братом. Ее горе сердило Леву.
— Я не понимаю, — говорил он ей, — как ты можешь плакать о Феде! Это просто низкий мальчик, который льнет ко всякому богачу.
— Неправда, Лева! — горячо заступилась за брата Маша. — Федя совсем не такой; он едет с дедушкой потому, что здесь ему нехорошо, и еще потому, что он хочет учиться, а мне его жаль потому, что я его люблю.
Феде также было, видимо, тяжело расставаться с сестрой, но он утешал и ее, и себя мыслью, что они разлучаются ненадолго.
— Не плачь, Машенька, — говорил он, ласкаясь к ней, — ты также скоро приедешь в Петербург: я постараюсь так угождать дедушке, что он и тебя возьмет к себе, ты ведь приедешь, не правда ли?
Маша отвечала одними слезами.
Глава VI. Письма
Письмо Феди к Маше.
Июля 8-го 18** г.
Милая Маша! Ты меня бранишь за то, что я написал тебе всего одно письмо и ничего не рассказал о своей жизни в Петербурге, и ты думаешь, что я тебя забыл. Это неправда, я тебя нисколько не забыл и очень люблю, только мне, право, совсем некогда часто писать. Вот сегодня дедушка уехал в гости, я один дома, и я тебе все подробно расскажу. Во-первых, мы живем в ужасно богатой квартире, такой, как мы с тобой никогда прежде и не видали. У нас всего восемь комнат, и у меня есть своя особенная комната подле кабинета дедушки. Она очень хорошенькая, в ней стоит зеленая сафьянная мебель и даже письменный стол, похожий на тот, который был у мамаши; она мне очень нравится, только одно жалко, что мало приходится сидеть в ней: утром ко мне приходит учитель, который занимается со мной два часа и готовит меня к экзамену в гимназию, а потом я целый день должен быть с дедушкой. Я читаю ему газеты, хожу с ним гулять, а после обеда слушаю его рассказы о его прежней жизни и сам ему что-нибудь рассказываю, по большей части о Григорье Матвеевиче и о нашей жизни у него. По вечерам к нам приходят обыкновенно двое или трое гостей, старых знакомых дедушки; они разговаривают с дедушкой, а больше играют в карты. Когда дедушка играет в карты, он любит, чтобы я сидел подле него, говорит, что это приносит ему счастье. Мне, по правде сказать, немножко скучно сидеть часа четыре на одном месте, но дедушка очень сердится, когда я прошусь спать; и когда он в выигрыше, он дарит мне копеек двадцать — тридцать, так что у меня теперь скопилось два рубля. Зато когда он проиграет, он меня бранит и третьего дня даже очень больно ударил. Но все-таки он очень добр ко мне: он сделал мне две пары нового платья, купил даже перчатки и тросточку, так что я гуляю по улицам, как порядочный мальчик. Ты спрашиваешь, не очень ли жарко и душно в Петербурге? На улицах очень душно и пыльно, а у нас квартира не на солнце, так что не жарко. Мы с дедушкой ездили раза четыре кататься на острова в коляске; там на дачах, должно быть, очень хорошо, я даже немного позавидовал мальчикам и девочкам, которые бегали в садах, но дедушка говорит, что он не любит жить на даче. Один знакомый старичок просил отпустить меня на недельку погостить на дачу к его дочери, у которой есть сыновья моих лет, но дедушка не пустил меня: он говорит, что те мальчики ужасные шалуны, что мне не надо знаться с ними. Ты пишешь, не раскаиваюсь ли я, что поехал в Петербург? Как можно! Здесь гораздо лучше, чем у вас! Иногда, когда дедушка не в духе, он бранит меня понапрасну, да другой раз бывает скучновато сидеть с ним, но зато я уверен, что он никогда не оставит меня и устроит меня хорошо. Мне хотелось бы, чтобы и ты приехала сюда, Маша. Теперь я еще не смею просить об этом у дедушки, но через несколько времени, когда он привыкнет ко мне и полюбит меня, я попрошу его за тебя, если только ты обещаешь быть послушной и почтительной к нему. Непослушания он терпеть не может и сказал мне, что если я хоть в чем-нибудь выйду из его воли, он тотчас выгонит меня из дома. Ты понимаешь, какое это будет для меня ужасное несчастие и как я должен быть осторожен! Ты не писала мне, куда истратила те деньги, которые тебе подарил дедушка. Если они у тебя еще целы и не очень тебе нужны, пожалуйста, милая сестрица, пришли мне рублей десять или двадцать. Мне они нужны, чтобы подарить прислуге: у нас два лакея, и они вежливы со мной только при дедушке, а без дедушки грубят мне и не хотят ничего для меня делать. Я думаю, если подарить им денег, они станут лучше. Я бы отдал им то, что у меня есть, но они такие важные, что стыдно давать им мало. Прощай, милая Машенька, крепко целую тебя. Остаюсь любящий твой брат Федор Г.
Письмо Маши к Феде.
Сентябрь 18** г.
Мой милый, дорогой Федичка! Как мне всегда грустно браться за перо, чтобы писать к тебе! Как тяжело подумать, что мы с тобой живем в разных городах и узнаем друг о друге только из писем! Милый мой! Хоть ты этого не пишешь, но я вижу из твоих писем, что тебе очень тяжело жить в доме дедушки. Как бы мне хотелось быть с тобой, утешать и защищать тебя! Я не хотела бы променять свою теперешнюю жизнь на твою! Правда, мне часто приходится плохо и от дяди и, главное, от тети Глаши, я ношу заплатанные платья и изорванные башмаки, терплю голод и обиды, но по крайней мере я не одна: у меня есть тетя Анна, такая добрая, ласковая, всегда готовая разделить со мной всякое мое горе, и потом Лева, Любочка, которые терпят не меньше моего и с которыми я всегда могу поговорить по душе. Даже Володя стал довольно дружен со мной: без тебя ему скучно, он поневоле приходит к Леве и ко мне, и так как мы не даемся ему в обиду, то он привыкает вести себя, как следует. Когда мы сидим все вместе тихо и мирно в комнате тети Анны, я часто вспоминаю о тебе, и мне так грустно подумать, что ты один, совсем один, среди чужих людей, которые тебя не любят и которых ты не любишь! В нынешнем месяце мне было два больших удовольствия. Во-первых, 6 сентября доктор вернулся из деревни и привез нам нашу Любочку. Жизнь в деревне, в добром семействе доктора принесла ей большую пользу: она выросла, правда, немного, но пополнела, сильно загорела и, главное, стала меньше прежнего трусливой и слезливой. Пока я не увидела ее, я все жалела, что не могла прислать тебе моих денег, но теперь не могу жалеть: тебе, верно, удастся ласковым обращением и без подарков заслужить любовь прислуги, а бедная девочка совсем захирела бы в наших душных комнатах, если бы дедушкин подарок не пришелся так кстати. Дядя без большого затруднения отпустил ее с доктором, но денег платить не хотел, уверяя, что все леченья глупости, выдуманные для того только, чтобы разорять людей. Мы с тетей не сказали ни ему и никому, какие деньги заплатили доктору, это — тайна, которую знаешь ты один. Вторая приятная для меня вещь устроилась только третьего дня: по возвращении из деревни жена доктора бывала у нас довольно часто и познакомилась со мной. Она очень жалела о том, что я ничему не учусь, и предложила мне приходить к ней каждый день учиться вместе с ее двумя дочерьми. Можешь себе представить, как я обрадовалась этому! Сначала дядя, вероятно, по наущению Глафиры, и слышать не хотел о том, чтобы позволить мне ходить учиться. Но я так упрашивала его, так приставила к нему, не обращая внимания на его брань и колкости Глафиры, что он наконец согласился. Сегодня я уж в третий раз ходила брать урок. У доктора две дочери — четырнадцати и двенадцати лет, и — представь себе, какой стыд! — я знаю меньше младшей! Зато уж как прилежно я стану заниматься! Мы с тетей хотим в нынешнем году начать учить Любочку, ведь ей уже исполнилось восемь лет: пока мы все обдумываем, как бы сделать ей ученье полегче и поприятнее, она такая слабенькая девочка, что ее нельзя запугать трудностями. Володя и Лева наконец поступили в гимназию приходящими. Они выдержали экзамен с грехом пополам и приняты только по просьбе дяди. Володя учится очень плохо, хотя Глафира Петровна уговорила дядю взять ему учителя, который занимается с ним каждый вечер и помогает ему приготовлять уроки. Лева учится хорошо, но его часто наказывают за то, что он грубит учителям, и с товарищами он все не ладит. Прощай, мой дорогой; пиши мне почаще и не забывай крепко любящей тебя сестры Маши.
Еще письмо Феди к Маше.
Милая Маша! Я не писал к тебе почти полгода, но это потому, что я был несколько сердит на тебя. Ты ужасно какая неосторожная, и в одном из своих последних писем позволила себе выразиться непочтительно о дедушке. Как нарочно, я получил это письмо за обедом и дедушка приказал мне прочесть его громко. Он очень рассердился на тебя и на меня, и мне стоило больших трудов успокоить его. Пожалуйста, будь в другой раз осмотрительнее, не забывай, что я живу благодеяниями дедушки и что мы должны быть благодарны ему. Вообще, нам лучше переписываться пореже, а то все удивляются, что я так часто получаю от тебя письма. Мне же, по правде сказать, и некогда писать. Я провожу много времени с дедушкой, а всякой свободной минутой пользуюсь, чтобы учиться. С осени я поступил в гимназию. Мой учитель говорил, что я могу держать экзамен во второй класс, но я этого не захотел: во втором классе мне было бы трудно учиться и пришлось бы считаться одним из последних. Я выдержал экзамен в первый класс так хорошо, что все учителя похвалили меня, и теперь я второй ученик в классе; был бы первым, да мне мало времени готовить уроки: я не могу, как другие, просиживать целые вечера за книгами, так как я нужен дедушке. Первое время мне было очень трудно справляться с уроками, но теперь я уже применился к гимназическим порядкам: если я замечу, что задан очень трудный урок, который другим не под силу, я всегда стараюсь выучить его как можно тверже и сам вызываюсь ответить. Таким образом, у меня из всех предметов хорошие баллы и инспектор сказал перед праздником дедушке, что я подаю большие надежды. Дедушка был очень доволен и обещал подарить мне золотые часы, если я перейду в следующий класс первым учеником. Я, конечно, приложу все старания, чтобы исполнить его желание и заслужить такой богатый подарок, не знаю только, удастся ли это мне: наш первый ученик очень способный и прилежный мальчик. Главное внимание я обращу на закон божий и на русский язык. Если у меня из них будет по пяти, то меня непременно поставят выше Петрова, хоть у него стоит по географии 5+. Я уж знаю, чем угодить и батюшке, и русскому учителю: батюшка любит, чтобы к нему подходили под благословение и чтобы у него спрашивали объяснение евангелия, которое читалось в воскресенье за обедней, а русский учитель любит, чтобы ему выучивали урок наизусть по книге и отвечали скоро, без запинок. Я постараюсь делать приятное им обоим и надеюсь заслужить их расположение. Товарищей у меня много: нас в классе тридцать пять человек. Я ни с кем не ссорюсь, но и дружбы большой не вожу: не нравятся они мне как-то: все такие грубые, любят драться, заводят такие игры, за которые может достаться от классного наставника. В гимназии я все свободное время провожу за книгой, зато когда в классе случится какая-нибудь шалость, все наперед знают, что я в ней не участвовал, и не наказывают меня с другими. Ах, Маша, как хорошо в Петербурге зимой, гораздо лучше, чем летом! Сколько здесь богатых магазинов, и какие отличные вещи там продают. А в театре как весело! Вчера мы с дедушкой ездили в балет: это такое великолепие, что ты себе и представить не можешь! Когда я вырасту большой, я непременно постараюсь сделаться таким же богатым, как дедушка, чтобы покупать себе все, что захочу, и хоть раз в неделю ходить в театр. Теперь у меня накоплено пять рублей, и на них я мог бы побывать в театре и, кроме того, купить себе очень хорошенькую чернильницу, но я лучше хочу на эти деньги сделать дедушке подарок к новому году; это будет ему приятно, и он, наверно, даст мне еще больше денег. Прощай, милая Маша! Пиши мне не слишком часто и, главное, не говори в своих письмах ничего дурного ни о дедушке, ни о моей здешней жизни.
Любящий тебя брат Федор Г.
Получив это письмо брата, Маша залилась горькими слезами. Как! Федя, ее дорогой Федя, просит ее писать пореже, читает громко ее письма и упрекает ее в излишней откровенности, с какой она высказывает ему свои мысли и чувства!
В первую минуту девочка хотела написать брату жесткое письмо и объявить, что не желает затруднять его перепиской, но, успокоившись, стала мысленно оправдывать Федю и взваливать всю вину на капризного старого деда. Она послала брату дружеское, но очень осторожное письмо, просила его простить ей ее легкомыслие, причинившее ему неприятность, и хотя раз в месяц давать ей о себе весточку.
Мы не станем передавать всех писем, которыми обменивались брат и сестра, так как письма эти сообщают мало нового о их жизни. Федя перешел во второй класс первым, получил от дедушки в подарок часы и продолжал заслуживать доброе расположение старших своим прилежанием и хорошим поведением. Маша по-прежнему вела борьбу с Глафирой Петровной и посвящала все свободное от уроков время Анне Михайловне и Любочке, здоровье которой опять начало расстраиваться с наступлением зимних морозов.
Глава VII. Семейное горе
После приведенного нами выше письма Феди прошло больше полугода. В один ясный сентябрьский день по улице города Р* шла худенькая, стройная девочка лет пятнадцати. Несмотря на то что она очень выросла и выглядела почти взрослой девушкой, мы без труда узнаем в ней нашу знакомую, Машу. Она возвращается из дома доктора, где продолжает брать уроки, и несет в руках целую кипу книг. Лицо ее выражает необыкновенное оживление, она то замедляет походку, то почти бегом пускается вперед: что-то, видимо, сильно волнует ее.
— Тут колебаться нечего, конечно, я поеду! — произносит она наконец почти вслух, и в глазах ее светится радость и решимость.
Дело в том, что в этот день жена доктора объявила ей, что все их семейство переселяется в Петербург, и звала ее с собой, предлагая ей учиться вместе со своими дочерьми. В первую минуту предложение это привело Машу в восторг: жить в добром семействе доктора, учиться вместе с милыми подругами — какое счастье! Но вслед за тем в голове девочки явилась мысль: а тетя Анна, а Любочка, а Лева? Как же оставить их? Ведь они же ее любят! Ведь она же нужна им! Она высказала свои сомнения жене доктора, но та сумела рассеять их, доказав девочке совершенно основательно, что через три года, когда вернется в семью дяди взрослой, образованной девушкой, она принесет родным гораздо больше пользы, чем оставаясь среди них теперь. По дороге домой Маша обдумывала слова своей милой учительницы и в конце концов нашла их справедливыми. Вот почему лицо ее выразило решимость, почему она такими легкими, быстрыми шагами поднялась на лестницу и вошла в столовую. Занятая своими мыслями, она и не заметила, что в доме происходило что-то необыкновенное: в передней слуги стояли без дела и вели оживленные разговоры, в столовой обед еще не был накрыт, хотя пробил час, в который семейство обыкновенно садилось за стол. Маша хотела пройти прямо в свою комнату, но в коридоре ей встретилась Глафира Петровна.
— А, вот его приятельница! Пожалуйте, пожалуйте-ка сюда, сударыня, — злобным голосом проговорила она и потащила девочку к комнате Анны Михайловны. Маша и не думала сопротивляться: она сразу угадала, что дело касалось Левы, и сердце ее сжалось от предчувствия беды.
По комнате Анны Михайловны большими шагами расхаживал Григорий Матвеевич, бледный от гнева; в больших креслах полулежала Анна Михайловна, сжимая руками виски с выражением сильнейшего страдания; в углу комнаты сидя на корточках рыдала Любочка, а у дверей стоял Володя, опустив голову, огорченный и встревоженный.
— Тетя, милая, что с вами? Что случилось? — вскричала Маша, бросаясь на колени перед теткой.
Анна Михайловна только глухо простонала. Вместо нее отвечал Григорий Матвеевич.
— Что случилось! — вскричал он, останавливаясь перед Машей и глядя на нее так сердито, точно она одна была во всем виновата. — Случилось то, что твоего милого друга, этого негодяя Левку исключили из гимназии!
— Исключили из гимназии? Господи! За что? Да где же Лева?
Никто не отвечал на эти вопросы. Григорий Матвеевич снова зашагал по комнате, ворча что-то про себя, Анна Михайловна, видимо, не в силах была говорить.
Маша подошла к Володе и просила его рассказать ей, что случилось и где Лева.
— Да видишь ли, — полушепотом рассказал Володя, — Лева вчера что-то сильно нагрубил инспектору, а инспектор сказал ему: «Вы должны завтра при всем классе попросить у меня прощения, не то вы будете исключены из гимназии». А сегодня Лева вместо того, чтобы просить прощения, опять сказал инспектору дерзость; тогда инспектор рассердился, написал папаше письмо, чтобы он взял Леву из гимназии, не то он будет исключен, и велел солдату снести это письмо и отвести Леву домой. Лева пошел с солдатом, да с полдороги и убежал куда-то. Солдат отдал папеньке письмо и ничего не сказал. Папенька думал, что Лева в гимназии и придет вместе со мной, а Лева не пришел: его послали искать по всему городу, только вот уж целый час прошел, а его все нет.
— Боже мой, какое несчастье! — проговорила со вздохом Маша. — Да как же ты, Володя, вчера не сказал нам, что инспектор велел Леве просить прощенья?
— А я, по правде сказать, и забыл. Лева каждый день грубил кому-нибудь, я думал его просто накажут, да и все, — оправдывался Володя.
— Да, уж накажут, это верно! — вскричал Григорий Матвеевич. — Только бы он пришел, я ему покажу, как грубить начальству!
— А все от баловства, — вставила свое словцо Глафира Петровна. — Я давно говорю, что из этого мальчишки проку не будет: так нет, мне не хотят верить.
Анна Михайловна хотела что-то сказать, хотела, может быть, заступиться за сына, но судорога сдавила ей горло, она откинула назад голову, и с ней начался сильнейший истерический припадок, за которым последовало полнейшее изнеможение. Вся семья хлопотала около больной, потом, когда истерика кончилась и она в полузабытьи спокойно лежала в постели, все вышли, оставив около нее одну Машу. Только к вечеру Анна Михайловна открыла глаза и спросила тревожным голосом:
— Что он? Пришел?
— Нот еще, тетя, — отвечала Маша.
Но вот прошла ночь, прошло все утро следующего дня, а мальчика все не было. Перед обедом Григорий Матвеевич вошел в комнату жены, успевшей несколько оправиться после своего вчерашнего припадка.
— Вы не вздумали ли спрятать куда-нибудь мальчишку? — обратился он к Анне Михайловне и к Маше.
— Что вы это? Как можно! — вскричала Анна Михайловна.
— То-то же! Ведь не злодей я, в самом деле. Ну, накажу его, конечно, он тоги стоит, да ведь не убью же! Коли знаете, где он, скажите.
— Мы, право, не знаем, дядя, — отозвалась Маша.
Григорий Матвеевич нахмурился.
— Куда же он мог деться! — проговорил он озабоченно. — Его искали по всему городу!
Анна Михайловна побледнела и едва не лишилась чувств.
Прошел еще вечер и еще ночь, а о Леве не было ни слуху ни духу.
Анна Михайловна и Маша ждали его с минуты на минуту в смертельной тоске и тревоге. Григорий Матвеевич продолжал еще бранить сына, но, видимо, гораздо больше беспокоился о нем, чем сердился на него. Любочка захворала от слез; Володя, хотя никогда не живший в дружбе с братом, сильно присмирел и принимал живое участие в семейном горе.
Часы проходили за часами, дни за днями, а Лева не являлся; никто не видал его с той минуты, как он убежал от солдата, провожавшего его домой, никто ничего не знал о нем. Слабое здоровье Анны Михайловны не вынесло этого нового, тяжелого испытания: она заболела и слегла в постель. Кроме Маши, некому было ухаживать за ней; занятая больною, тревожась о пропавшем брате, девочка не имела времени думать о своей собственной судьбе. Жена доктора несколько раз приходила к ней и уговаривала ее ехать с собой.
— Разве я могу оставить больную тетю? — со слезами на глазах отвечала ей девочка.
Семейство доктора уехало в Петербург. Маша тяжело вздохнула, узнав об этом, но никто из окружавших не догадывался о том значении, какое имел для нее этот отъезд, о том, чего она лишала себя.
С тех пор как исчез Лева, прошло около месяца. Вдруг Маше принесли с почты письмо, надписанное не рукою Феди. Девочка, не получавшая до сих пор писем ни от кого, кроме брата, с недоумением распечатала конверт и чуть не вскрикнула от радости: в конверте лежало маленькое письмецо, написанное рукою Левы.
Милая Маша! — писал мальчик. — Я живу на заводе у дяди Колоколова, одного из наших гимназистов. Колоколов дал мне к нему письмо, он меня принял и берется выучить сахарному производству.
Я думаю, маменька очень плакала обо мне, ты ее утешь, мне здесь недурно живется, только работать приходится много, да это ничего. Прощай. Лев Г.
Маша тотчас же побежала показать это письмо Анне Михайловне. Письмо было и коротенькое, и очень необстоятельное, но уже одна весть о том, что ее сын жив, представлялась огромным утешением для бедной матери.
С тою же почтою и Григорий Матвеевич получил письмо от хозяина завода, на котором скрывался мальчик. Колоколов писал, что согласен принять к себе Леву, если Григорий Матвеевич пришлет его паспорт и обяжется контрактом оставить его на заводе семь лет.
Григорий Матвеевич очень рассердился, получив это письмо.
— Посмотри-ка, как отлично распорядился твой любимец, — сказал он, входя в комнату Анны Михайловны. — Дурно ему было у отца в доме, поступил в рабочие на завод: прекрасное устройство, нечего сказать!
— Ты съездишь туда? Ты привезешь его назад домой? — умоляющим голосом проговорила больная.
— Очень нужно! Хочет быть простым рабочим, так пусть и будет, мне-то что за дело! Подпишу контракт с Колоколовым, попрошу его держать мальчишку в ежовых рукавицах, да и все тут!
— Полно, Григорий Матвеевич, ведь он тебе сын, не чужой! Он еще совсем ребенок, как же так его забросить!
— Ребенок, так слушать должен отца, а не сам собой распоряжаться! Ну, да это мы еще посмотрим!
В голосе Григория Матвеевича слышалось колебание, и Анна Михайловна надеялась, что он смягчится и хоть по крайней мере съездит к Колоколову прежде, чем отдавать ему Леву на целых семь лет. Действительно, когда первый порыв гнева прошел, Григорий Матвеевич не прочь был бы исполнить желание жены, но тут подоспела Глафира Петровна со своими нашептываниями.
— Полноте, братец, — говорила она, — из-за чего вам беспокоиться, ехать такую даль, шутка ли — четыреста верст! Ведь Лева уже не маленький, ему скоро четырнадцать лет исполнится: выбрал сам себе такую жизнь, ну, пусть и живет. Небось поест чужого хлеба, так отцовский слаще покажется. Ведь уж все равно, вам его дома держать нельзя. Вы сами видите, до чего избаловала его Анна Михайловна. Оставьте вы его! Худо ему будет, к вам же придет с покорной головой!
Григорий Матвеевич, привыкший слушаться наущений «сестрицы», поступил и в этот раз по ее желанию. Он послал Колоколову все необходимые бумаги, и судьба Левы была решена. Сам Лева очень мало тужил об этом: в ответ на письма, в которых Анна Михайловна и Маша умоляли его сообщить им подробности его жизни у Колоколова, он написал следующее письмецо:
Милая мама! Вы напрасно беспокоитесь обо мне и думаете, что мне здесь худо. Нисколько. Я много работаю, хотя меньше взрослых рабочих; моя сила пригодилась мне. Потом хозяин объясняет мне устройство разных машин и как что делается и дает мне читать книги. Одежда у меня грязная, как у всех рабочих, а пищу мне дает хозяин не хуже, чем у нас дома, даже лучше, потому что больше.
Прощайте, кланяйтесь Маше.
Ваш сын Лева.
Письмо это вовсе не успокоило Анну Михайловну. Левушка, ее Левушка живет, работает, как простой рабочий, не получает почти никакого образования! Бедная мать проводила почти целые вечера и ночи в слезах о сыне. Напрасно Маша старалась утешить ее, напрасно убеждала она ее, что хозяин Левы, по-видимому, не злой человек, принимающий участие в мальчике, — Анна Михайловна не слушала никаких утешений. Здоровье ее не вынесло этого постоянного горя. Она начала чахнуть, хиреть до того, что даже Григорий Матвеевич, считавший болезни жены капризами, заметил это и пригласил доктора. Доктор побывал раза три-четыре, прописал лекарство, от которого больной не стало нисколько не лучше, и затем перестал приезжать. Весной Анна Михайловна слегла в постель и уже больше не вставала. У нее сделалась нервная горячка, она в забытьи металась на постели, звала Леву, разговаривала с ним, отгоняла прочь мужа. Одна Маша умела угодить ей и, просиживая дни и ночи у изголовья ее, облегчала ей хоть немного ее страдания. Три недели пролежала больная в забытьи. Наконец один раз ночью она пришла в себя.
Маша наклонилась над ее постелью, прислушиваясь к ее слабому голосу.
— Маша, благодарю тебя! — проговорила больная и прижалась губами к руке девочки.
— Тетя, милая, за что же? — вскричала тронутая Маша.
Больная не отвечала: видимо, ей трудно было говорить. Через несколько секунд, собравшись с силами, она произнесла еще более слабым голосом:
— Я умру… я знаю… Маша… я хочу… я хочу попросить тебя…
— Что такое, тетя? Скажите, я все сделаю!
— Не оставь Леву и Любу! Пиши Леве; когда нужно, помоги… а Любу побереги… научи… не бросай ее… мне так жалко их.
— Тетя, не тревожьтесь, я всегда буду любить и Леву, и Любу, я сделаю для них все, что могу, обещаю вам!
В потухших глазах умирающей блеснул луч радости.
— Ангел мой! Благодарю! — прошептала она. — Теперь я спокойна, мне хорошо, я засну!
Она опять приложилась губами к руке Маши и закрыла глаза Дыхание ее было ровно, она не металась больше, как при начале болезни. Маша подумала, что она спит, и сама, утомленная бессонными ночами и волнением последней сцены, села в большое кресло и задремала. Ее разбудил резкий голос Глафиры Петровны:
— Ах ты господи! Да она никак померла! Да, холодная как есть! А ты чего же спишь, дура! Надо сказать Григорию Матвеевичу да обмыть покойницу.
Маша вздрогнула и вскочила. Майское солнце врывалось веселыми лучами сквозь незавешенные окна комнаты, в углу которой Глафира Петровна наклонялась над бездыханным телом Анны Михайловны.
Глава VIII. Решение
Смерть Анны Михайловны мало чем изменила семейную жизнь Гурьевых. Григорий Матвеевич реже прежнего оставался дома и еще с большим равнодушием относился ко всему, что происходило в его семье. Глафира Петровна сделалась совершенно полновластною хозяйкою, и от этого больше всего терпела Маша. Тяжела была жизнь бедной девочки! Прежде около нее было хоть два существа, сочувствовавшие и утешавшие ее своею дружбою; теперь, когда Лева был далеко, а Анна Михайловна лежала в сырой могиле, она чувствовала себя совершенно одинокой. Любочка, правда, любила ее, но она была еще совсем ребенок, мало развитой, болезненный ребенок, требовавший много забот и попечений и доставлявший пока немного радостей. Из-за Любочки-то именно и происходила большая часть столкновений Маши с Глафирой Петровной. Маша находила, что девочку, и без того слишком робкую, не следует еще больше запугивать ни наказаниями, ни строгими выговорами, что ей надо давать побольше есть и заставлять ее побольше двигаться. Глафира Петровна, напротив, учитывала каждый кусок хлеба, съедаемый девочками, иначе не говорила с Любой, как строгим, повелительным голосом, и готова была целые дни держать ее на месте за каким-нибудь никому не нужным шитьем или вязаньем. Маша горячо отстаивала свои права и права ребенка, взятого ею на свое попечение. Глафира Петровна часто принуждена была уступать ей, но после каждой подобной победы бедная девочка возвращалась к себе в комнату измученная, утомленная и с горькими слезами бросалась на постель.
«Господи, какая нестерпимая жизнь! — думалось ей в эти минуты. — И неужели мне долго суждено вести ее! Скоро мне исполнится шестнадцать лет. Другие девушки в мои года уже почти кончают образование, уже имеют возможность жить самостоятельным трудом, а я ничего не знаю, ничего не умею, мне всю жизнь придется жить из милости, переносить разные оскорбления от людей, которые считают меня своими благодетелями!»
В один день все эти печальные мысли особенно сильно мучили Машу. Люба с утра была не совсем здорова и вследствие этого поминутно плакала; Глафира Петровна рассердилась на нее за эти слезы и хотела запереть ее на целый день в темный чулан. Маше с большим трудом удалось избавить бедную девочку от этого наказания и отправить ее погулять с Володей, который не пошел в гимназию под предлогом головной боли. Много колкостей и оскорбительных упреков пришлось выслушать Маше, прежде чем тетка наконец оставила ее в покое и отправилась по своим делам.
«Нет, так жить невозможно, положительно невозможно, — думала бедная девушка, ходя быстрыми шагами по своей маленькой комнатке. — Я должна что-нибудь придумать, как-нибудь переменить свое положение».
В эту минуту вошедшая горничная подала ей толстый пакет. Маша тотчас же узнала на адресе почерк Феди и поспешила распечатать пакет: в нем лежало письмо и какая-то бумага. Маша не обратила внимания на бумагу и тотчас же принялась читать письмо.
Милая сестра, — писал Федя. — Давно уже не был я так счастлив, как в настоящее время, и ты, вероятно, разделишь мои чувства, так как и тебе готовится такая же радость. Ты, конечно, не забыла нашу жизнь с матерью, помнишь, как счастливо проводили мы свое детство, не нуждаясь ни в чем необходимом. Меня давно занимала мысль, откуда брала наша мать средства содержать нас: я очень хорошо помнил, что она не работала, значит, у нее были деньги, куда же они девались после ее смерти? Счастливый случай помог мне разрешить этот вопрос. С дедушкой познакомился один старый приятель папеньки, знавший хорошо и маменьку, и всю ее жизнь. Я обратился к нему с расспросами, и он объяснил мне, что, умирая, папенька оставил наследства пятнадцать тысяч; мы с маменькой жили на проценты с этих денег, и они были не тронуты до ее смерти. Я рассказал все это дедушке, он навел справки, и оказалось, что мы с тобой действительно вовсе не бедные сироты, взятые из милости добрым родственником. Маменька назначила нашим опекуном Григория Матвеевича, а он, вместо того чтобы тратить наши деньги на наше образование, содержал нас, как нищих, и, обирая нас, всюду хвалился своею добродетелью. Дедушка очень рассердился, узнав об этом, я также был сильно рассержен. Но самое лучшее то, что дело может быть исправлено: дедушка устроил так, что его назначили моим попечителем, и он возьмет у Григория Матвеевича мою часть наследства; если ты подпишешь и пришлешь нам обратно прилагаемую при сем бумагу, то и твои деньги будут в верных руках и ты получишь возможность распоряжаться процентами с них и устроить свою жизнь, как хочешь. Я бы советовал тебе скорей приехать в Петербург; дедушка говорит, что ты еще слишком молода, чтобы жить одна, но что он может поместить тебя или в хороший пансион для окончания твоего образования, или в какое-нибудь знакомое ему семейство. Теперь скажу тебе несколько слов о себе, хотя много говорить не стоит, так как мы, вероятно, очень скоро увидимся; на будущей неделе у нас в гимназии кончатся классы перед каникулами, и я надеюсь перейти первым учеником в четвертый класс и опять получить похвальный лист и награду книгами. Нынешний год мне особенно трудно было заслужить это отличие: здоровье дедушки так слабо, он так любит меня, что я постоянно должен находиться при нем, и могу отдавать урокам очень мало времени. К счастью, начальство гимназии и все учителя расположены ко мне и делают мне некоторые снисхождения. Прощай, милая Маша, надеюсь, до скорого свидания.
Любящий тебя брат Федор.
Маша несколько раз перечитала это письмо и все не верила глазам своим. Возможно ли это? В ту самую минуту, когда она считала себя такой несчастной, когда она не находила возможности изменить свое положение, возможность эта представилась сама собой! И как все это просто и легко! Подписать присланную бумагу, отослать ее обратно в Петербург, и через несколько недель, может быть, даже дней, в руках ее будут деньги, она будет свободный человек, она начнет самостоятельную жизнь! Сердце девушки сильно билось, она чувствовала, что кровь быстрее прежнего обращается в ее жилах, всю ее охватило какое-то радостное волнение! Несколько минут тому назад она была бедной нищей, которую попрекали куском хлеба, которую грозили выгнать из дому, теперь оказывается, что не она облагодетельствована, что, напротив, другие живут на ее счет, пользуются ее состоянием! Как приятно ей будет объяснить это Глафире Петровне, как приятно ей будет навсегда расстаться с этой злой, сварливой женщиной! Какой умный Федя! Как хорошо, что ему пришло в голову разговориться со старым знакомым отца! И как это она сама ни разу не подумала справиться, куда девались деньги ее матери! Но что делать теперь? Пойти и все рассказать Глафире Петровне? Нет, зачем? Опять начнутся разные неприятности, разговоры и объяснения! Лучше просто подписать бумагу, отослать ее в Петербург и потом переговорить с дядей. Как он удивится! Как он рассердится! Э, да не все ли равно! Скоро она будет в Петербурге, она будет свободна, и тогда пусть он себе сердится, сколько хочет.
Маша развернула бумагу и подошла к столу, приготовляясь подписать ее. Вдруг в комнату вошла Любочка, только что вернувшаяся с прогулки. Свежий воздух хорошо подействовал на девочку, на щечках ее появился легкий румянец, она не казалась такой вялой и больной, как утром.
— Вот, ты правду говорила, Машенька, что мне надо погулять, — сказала она, обнимая сестру и прижимаясь к ней головкой. — Я теперь совсем здорова и мне так весело! Володя повел меня по разным переулочкам совсем на конец города. Там так хорошо, травка такая зелененькая и большой сад! Володя говорил, что ему нельзя ходить со мной по большим улицам, потому что там, пожалуй, встретится кто-нибудь из гимназии и увидит, что он здоров, и потом он еще говорит, что ему стыдно ходить со мной оттого, что я так дурно одета. А тебе, Маша, не стыдно? Ты ведь одета не лучше меня, правда? Маша, что же ты ничего не говоришь, Маша, что с тобой? Ты не здорова?
— Нет, ничего, Любочка, я здорова, оставь меня, поди одень свою куклу, после ты мне расскажешь все, что видела, — с усилием проговорила Маша.
Любочка, привыкшая слушаться с первого слова, отошла в задний угол комнаты, удивляясь, отчего сестра такая неласковая и неразговорчивая. При первых звуках голоса девочки сердце Маши болезненно сжалось, и щеки ее покрылись бледностью. Она в изнеможении опустилась на стул и закрыла лицо руками.
Уехать! Быть свободной! Быть счастливой! А этот ребенок, что станется с ним, на кого оставит она его? Месяц тому назад она обещала у постели умирающей заменить Любе мать, неужели она так скоро изменит своему обещанию, неужели она забудет трогательную просьбу покойницы? И будет ли она счастлива там? И не будет ли среди новой, лучшей жизни преследовать ее образ бледного, болезненного ребенка, оставленного ею на верную гибель? Но что же делать, боже мой? Неужели остаться здесь и вести эту бесконечную, ежедневную борьбу с Глафирой Петровной? И когда все это кончится? Любочке еще нет одиннадцати лет, пройдет по крайней мере пять или шесть лет прежде, чем она в состоянии будет сама себя защищать, сама о себе заботиться. Шесть лет, да ведь это целая вечность! И каких еще лет, лучших в жизни человека, лет первой молодости! А искусительная бумага лежала тут под рукой, подписать, послать ее — и все мелкие дрязги и неприятности будут кончены! Маша протянула руку к бумаге, но в эту минуту перед глазами ее ясно представилась Анна Михайловна и тот взгляд тоскливой мольбы, с каким умирающая просила ее не покидать Любочку.
— Нет, я не могу обмануть ее, я обещала ей и исполню свое обещание, чего бы это мне ни стоило!
С этими словами она схватила бумагу и разорвала ее в мелкие клочки.
Любочка опять подошла к ней.
— Я одела куклу, Машенька, можно мне теперь посидеть с тобой? — спросила она робко, умоляющим голосом.
— Можно, можно, моя дорогая, приди, посиди со мной! — вскричала Маша; она привлекла к себе девочку, крепко прижала ее к груди и горько заплакала.
Люба не понимала, что значат эти слезы, не догадывалась, что сама была невинной причиной их, она видела только, что ее любимая сестрица огорчена, и старалась утешить ее своими детскими ласками. Маша и в самом деле скоро утешилась. Сознание того, что она добровольно, для исполнения данного слова и для пользы беззащитного ребенка соглашалась продолжать жизнь, казавшуюся ей такой безотрадною, поддерживало ее. Полчаса спустя она уже весело разговаривала с Любой, хотя всякий раз, как глаза ее падали на письмо Феди, лежавшее на столе, она чувствовала, как сжимается сердце ее.
Глава IX. Пять лет спустя
Письмо Федора Сергеевича Гурьева к Марье Сергеевне
Милая Маша! Помнишь, как два года тому назад ты отговаривала меня от моего намерения бросить гимназию и посвятить все свое время дедушке, здоровье которого требовало постоянного ухода. Ты говорила, что так как у дедушки нашлось несколько родственников и старинных друзей, то я спокойно могу оставить его на их руках и заботиться главным образом об окончании своего образования. Твои слова и тогда казались мне детски необдуманными, а теперь я окончательно убедился в их полной неосновательности. Если бы я послушался твоего совета, то, правда, был бы теперь студентом университета, но, почти наверно, остался бы на всю жизнь небогатым человеком: теперь же, когда я в течение двух лет пробыл почти безвыходно в комнате больного старика, стараясь по возможности удалять от него всех, так называемых друзей и родственников, он оставил мне все свое состояние, и я сразу приобрел такое богатство, о котором и не мечтал никогда прежде. Правда, нелегко было мне жить эти два года: ты сама возилась с больными и знаешь, какое это мучение, особенно если больные так капризны и взыскательны, как был старик. Вероятно, немногие молодые люди согласились бы вынести все то, чему я подвергался в эти два года! Зато когда две недели тому назад я проводил старика на кладбище и когда затем было прочтено завещание, в котором он назначал меня своим единственным наследником, я почувствовал, что вполне вознагражден за все свои труды и лишения, за все оскорбления, вынесенные мною. Теперь я занят устройством своей новой жизни. Я отделываю себе квартиру, завожу лошадей и, вообще, хочу жить не таким скрягой, каким жил старик. Мне очень хотелось бы, чтобы ты приехала ко мне, милая сестра. При моей новой, богатой обстановке мне нужна хозяйка в доме, и ты, конечно, согласишься взять на себя эту роль, тем более что твоя жизнь в доме дяди далеко не привлекательна. Приезжай к концу лета, к тому времени я успею несколько устроиться. Прощай, милая Маша, до свидания, извини, что так мало и редко пишу к тебе: право, некогда — занят сильно.
Любящий тебя брат Ф. Г.
Месяца через два после того, как письмо это было отправлено, к подъезду одного из больших и красивых домов Литейной улицы подъехала извозчичья карета. На козлах ее стоял большой чемодан, из окон виднелись подушки и саквояжи: очевидно, она привезла путешественников с какой-нибудь железной дороги. Дверцы экипажа отворились, и из него вышли две молодые девушки в старых, изношенных пальто, в старомодных безобразных шляпках, без перчаток, в грубых кожаных полусапожках на ногах. Старшая вошла в подъезд и, несколько смутившись при виде великолепно убранной лестницы, обратилась к толстому, важному швейцару с робким вопросом:
— Скажите, пожалуйста, здесь живет Федор Сергеевич Гурьев?
— Здесь, — отвечал швейцар, окидывая презрительным взглядом прибывших, — а вам что нужно?
— Мы к нему приехали… я его сестра… — проговорила старшая из девушек, покраснев до ушей.
Обращение швейцара вмиг переменилось.
— Извините-с, сударыня, я не знал, — произнес он почтительным тоном, вскакивая с места. — Пожалуйте сюда, наверх, Федор Сергеевич давно изволят ожидать вас, пожалуйте-с.
— А у меня остались вещи в карете, — робко заметила Маша, сконфуженная предупредительностью швейцара еще больше, чем его прежнею грубостью.
— Не извольте беспокоиться, вещи сейчас будут принесены вам.
Маша в сопровождении швейцара и своей молоденькой спутницы, смотревшей на все удивленными, почти испуганными глазами, вошла в квартиру брата. Квартира эта, занимавшая весь бельэтаж дома, была отделана очень богато и показалась обеим девушкам верхом роскоши. Федор Сергеевич — теперь уже, конечно, никто не осмелился бы назвать его просто Федей — встретил сестру в первой комнате и ласково обнял ее. Затем глаза его с недоумением остановились на ее спутнице.
— Ты не узнал? Это Любочка! — поспешила отрекомендовать ее Маша.
— Действительно, не узнал, здравствуйте, — проговорил Федор Сергеевич, холодно протягивая руку своей кузине.
— И тебя трудно узнать! — вскричала Маша, схватив брата за обе руки и смотря ему прямо в лицо. — Ты был такой маленький, худенький, когда уезжал от нас, а теперь стал совсем большой, и усы у тебя уже есть; только пополнел ты мало, здоров ли?
— Здоров, конечно. Однако мне никак нельзя остаться с тобой, меня ждет один господин по делу, я сейчас позову твою горничную; она проводит тебя в твою комнату, за обедом мы опять увидимся и поговорим. — Он еще раз поцеловал сестру, приказал стоявшему в передней лакею позвать горничную и уехал, не взглянув даже на Любочку.
Горничная, несколько смутившая приезжих своим нарядным костюмом и развязными манерами, провела их в комнаты, предназначенные для Маши. Это были две заново и довольно красиво, хотя как-то неуютно, меблированные комнаты; они сами и все в них было такое миниатюрное, так, очевидно, приспособленное для красивой внешности, а не для удобства, что Маша не могла удержаться от вздоха, оглядывая свое новое жилище.
— Мне здесь и места нет! — печально произнесла Люба, когда горничная вышла вон.
— Полно, милая! — вскричала Маша, нежно целуя бледную щечку кузины. — Где я, там всегда будет место и тебе. Я сегодня же велю купить другую кровать и поставить ее рядом с моей. Не беда, что немножко тесно, мы ведь с тобой не привыкли к роскоши. Только о костюме нам надо будет позаботиться, смотри, какими чучелами мы выглядим!
Большое трюмо отражало фигуры кузин, и, действительно, фигуры эти составляли резкую противоположность красивому убранству комнаты: на Маше был надет какой-то истасканный шерстяной балахон, шелковый платочек, повязанный ей на шею, перевернулся задом наперед, волосы ее растрепались в дороге и, падая космами на ее лицо, еще резче выставляли бледность и худобу се щек. Люба напоминала своим высоким ростом и своею худобою длинную вытянутую палку; ее коротенькое, измятое ситцевое платье не закрывало пары очень больших ног в толстых неуклюжих сапогах; от бессонной ночи веки глаз ее покраснели и распухли, а жиденькие белокурые волосы болтались двумя маленькими косичками около длинной шеи.
Чтобы рассеять несколько неприятное впечатление, произведенное на нее не довольно дружескою встречей брата. Маша тотчас же принялась разбирать свои и Любочкины вещи и устраивать себе и кузине сколько-нибудь порядочные костюмы к обеду. Время на это потребовалось немало, так как гардероб девушек был в очень плохом состоянии. Кузины только что успели одеться, когда горничная вошла в комнату и, едва сдерживая презрительную улыбку при виде барышень, обходившихся без ее помощи, доложила, что Федор Сергеевич изволят просить кушать.
Маша снова взглянула в трюмо и осталась довольна своим темным шерстяным платьем, изящно обрисовавшем ее стройную фигуру; и Любочка в синем шерстяном платье, с синей ленточкой в волосах казалась хотя жалкой, но не безобразной.
Обед прошел довольно молчаливо. Машу стесняла прислуга, служившая за столом, Федя казался чем-то недоволен. Тотчас после обеда он увел сестру к себе в кабинет.
— Скажи, пожалуйста, — начал он, как только они остались одни, — для чего ты притащила с собой эту гусыню. Она и девочкой была мне всегда противна, а теперь, кажется, стала еще хуже.
На глазах Маши навернулись слезы.
— Ты знаешь, Федя, — сказала она, — что мне неприятно было бы расстаться с Любой. Я так радовалась, когда дядя отпустил ее со мной! Если она противна тебе, мы с ней можем жить отдельно, дядя отдал мне мои деньги, кроме того, я могу работать…
— Ну, уж это пустяки, — прервал Федя. — Все знают мое состояние и вдруг сестра моя работает! Это ни на что не похоже! Если ты не можешь бросить эту девчонку, нечего делать, пусть она остается здесь! Только вот что: и тебе, и ей надо приодеться. Я дам тебе денег, поезжай завтра же по магазинам и устрой себе приличный костюм.
— Мне не надо твоих денег, у меня есть свои, — отвечала Маша, чувствуя, что в эту минуту не в состоянии взять у брата ни копейки.
— Ну и прекрасно! — заметил Федор Сергеевич, с видимым удовольствием запирая пачку ассигнаций в свой письменный стол. — А теперь скажи, хочешь ты хозяйничать у меня в доме?
— Пожалуй, если тебе это нужно.
— Еще бы, даже очень.
Федор Сергеевич сел рядом с сестрой и принялся очень длинно и очень толково объяснять ей, какой порядок он хочет завести у себя в доме, какую прислугу держать, сколько расходовать денег и на что именно. Маша молча слушала его. Все, что он говорил, было вполне разумно, он, очевидно, долго придумывал, как устроить свою жизнь недорого и в то же время вполне удобно и роскошно, и придумал все удивительно расчетливо, но сердце Маши болезненно сжималось, и она едва удерживалась от слез, слушая его. Больше восьми лет не видала она брата, и вдруг в первый день свидания он не находит с ней более приятного разговора, как разговор о хозяйстве и о деньгах.
Федор Сергеевич не замечал волнения сестры, он остался вполне доволен, когда она, выслушав его до конца, сказала: «Ты все отлично придумал, я постараюсь вести хозяйство по твоему желанию» — и не удерживал ее, когда она, ссылаясь на усталость после дороги, выразила желание уйти в свою комнату.
Бедная Маша! После стольких лет тяжелой жизни она надеялась, наконец, отдохнуть в доме брата, она надеялась встретить у него любовь, ласку, в которых так нуждалась, и первый же разговор с ним, первый день, проведенный в его доме, показали ей, как горько она ошиблась!
Приглашая к себе сестру, Федор Сергеевич вовсе не думал о том, чтобы доставить ей счастливую жизнь. Ему, как он и писал ей, нужна была хозяйка в доме, и он рассчитывал, что сестра его окажется честнее и усерднее наемной экономки. Со второго же дня по приезде Маша вступила в исполнение своих новых обязанностей. Обязанности эти оказались гораздо труднее, чем она воображала сначала. Федор Сергеевич хотел жить так, как живут очень богатые люди, и в то же время не любил тратить много денег. Маше приходилось учитывать прислугу в каждой копейке, постоянно раздумывать, как бы урвать какой-нибудь рубль от полезных, но не бросающихся в глаза расходов. Заботы эти далеко не нравились молодой девушке, да и вся жизнь в доме брата была ей не по душе. Ее окружала роскошь, часто даже лишняя, и между тем она страдала от недостатка многих необходимых вещей. Спальня ее была так тесна для двоих, что и она, и Любочка каждый день просыпались с головной болью от недостатка воздуха, в ее маленькой гостиной негде было поставить ни письменного стола для занятий, ни шкафчика для книг. Никогда, ни при одном из своих распоряжений брат не спрашивал ее мнения, ее совета, не сообразовывался с ее удобством или ее желанием, никогда не замечала она в его обращении с собой братской ласки, стремления сблизиться, подружиться с ней. Живя в доме дяди, Маша не привыкла к доброте окружающих, но тех окружающих она и сама не любила, от них она хотела одного — чтобы они не обижали ее, оставили ее в покое. Брата же, напротив, она с детства привыкла любить, она прощала ему все его недостатки, она от души хотела его дружбы, и холодность его мучила ее. В большом, многолюдном городе бедная девушка чувствовала себя совершенно одинокой. У Федора Сергеевича были знакомые, но по большей части люди уже немолодые, очень богатые и важные, смотревшие на нее покровительственно. С ними она не могла сойтись, она даже очень неохотно выходила из своей комнаты, когда они приезжали, выходила только в угоду брату, требовавшему, чтобы она принимала его гостей и была с ними как можно любезнее. Федор Сергеевич сам выезжал очень много, но никогда не звал сестру с собой на балы и вечера к своим знакомым.
— Ты не умеешь танцевать, — ответил он ей один раз, когда она спросила, нельзя ли ей ехать с ним. — Мне неловко будет за тебя, и потом, чтобы ездить со мной, тебе придется тратить слишком много денег на наряды, — это невозможно.
После такого ответа Маша, конечно, никогда больше не просила брата взять ее с собой. Как она радовалась в это время, что около нее была Любочка! По крайней мере хоть было ей с кем поговорить по душе, хоть не совсем она была одна в этом чужом для нее доме.
Первое время Маша приписывала холодность и жесткость брата его нелюбви к ней и сильно огорчалась этим. Но скоро она заметила, что он жесток не с ней одной. Она услышала, как он строго приказывал лакеям выгнать бедную старушку, получавшую от его дедушки небольшую ежемесячную пенсию и приходившую выпрашивать продолжение этой пенсии. Войдя один раз в кухню, она застала кухарку в слезах и узнала, что она нечаянно разбила какую-то дорогую вазу, за что барин вычел с нее месячное жалованье, хотя очень хорошо знал, что этим жалованьем бедная женщина содержала больного мужа. Маша попробовала вступиться за нее, но брат перебил ее на первых же словах.
— Мне нет никакого дела до того, на что прислуга тратит свои деньги, — сказал он своим обыкновенным холодным, решительным тоном, — если я позволю ей бить и ломать свои вещи, у меня скоро ничего не останется.
— Но ведь ты же богат, Федя, десять рублей для кухарки очень большая сумма, а ты часто и больше тратишь на пустяки.
— Очень может быть; эти деньги мои, и я трачу их на свои удовольствия, до других мне дела нет.
Скоро Маша убедилась, что брат ее и действительно не намерен тратить свои деньги для кого бы то ни было, исключая себя. В самый первый день Нового года она получила письмо от Левы. Лева писал очень редко, раз или два в год, не больше, и Маша всегда с одинаковым нетерпением ждала от него весточки. На этот раз, впрочем, письмо его скорее огорчило, чем обрадовало ее.
Милая Маша! — писал он. — Не помню, сообщал ли я тебе, что наш старый хозяин умер нынче осенью. Завод перешел в руки его старшего сына. Новый хозяин завел и новые порядки: строгости у нас пошли непомерные. Особенно не понравилось ему мое положение: ты знаешь, что старый хозяин кормил меня лучше, чем едят простые работники, давал мне комнату в своем доме и доставлял возможность кой-чему учиться. Теперь этого ничего нет. Я работаю, ем и живу, как простой работник, даже один из самых бедных работников, так как жалованье мне платят самое маленькое. Порядочное обращение с людьми наш хозяин также считает лишнею роскошью. Одним словом, жизнь моя здесь так отвратительна, что я решил было, не ожидая срока моего контракта, бежать куда глаза глядят; я это и сделаю, если не удастся устроиться, как я хочу. Дело в том, что племянник старого хозяина, мой бывший товарищ по гимназии, собирается с весны основать с одним своим приятелем свой собственный небольшой завод и зовет меня к себе в компанию. Чтобы сделаться компаньоном, мне нужно иметь две тысячи рублей. Я писал об этом отцу и просил у него денег. Вчера получил от него ответ; он сообщает, что, к сожалению, ничего не может для меня сделать: милый братец, Володинька, изволит играть в карты и проиграл нынешнюю зиму такую сумму, что почти совсем разорил отца. Я был, признаться, в отчаянии, получив это письмо: все мои мечты устроить как-нибудь свою жизнь сразу рушились. Но тут я вспомнил, что твой брат получил огромное наследство. Я, конечно, ни за что не захотел бы принять от него подарка, но, может быть, он согласится дать мне в долг две тысячи рублей. Предприятие наше верное, и компаньоны мои охотно поручатся ему за меня; года через 4 или 5 я возвращу ему его деньги с процентами. Не пишу ему сам, потому что не умею просить; ты лучше сумеешь объяснить ему все: тебе же нечего объяснять, ты сама поймешь, как важно для меня получить эти деньги. Моя теперешняя жизнь невыносима, и так или иначе я должен покончить с ней.
Твой брат Л. Г.
«Бедный, бедный Лева, — подумала Маша, прочитав это письмо и чувствуя, что слезы навертывались на глазах ее. — Уж, должно быть, очень плохо ему пришлось, если он, такой скрытный и гордый, жалуется на свою жизнь, просит помощи. Конечно, Федя не откажет ему. Что значат две тысячи при его богатстве!»
Она тотчас же отправилась с письмом в руке в кабинет брата и рассказала ему в чем дело, стараясь как можно трогательнее представить положение Левы и необходимость скорей оказать ему помощь.
— Что же тебе от меня-то нужно? — холодно спросил Федя, выслушав ее.
— Как что? — удивилась Маша. — Да разве ты не понимаешь: он просит денег в долг, ему нужно две тысячи рублей.
— И ты воображаешь, что я могу раздавать свои деньги всякому, кто у меня попросит? Много мне самому останется!
— Да разве это значит всякому, Федя, ведь он же тебе родной, ведь ты же знал его с детства!
— Я знал его за негодного мальчишку, и он до сих пор остался таким же негодяем! В детстве он не хотел учиться, теперь не хочет работать, лентяй!
— Не брани Леву! — вскричала Маша, и щеки ее покрылись краской гнева. — Он — совсем не негодяй, он, может быть, лучше тебя самого.
— А лучше, так нечего ему и лезть ко мне, — все так же холодно отвечал Федор Сергеевич. — Прослышали, что я стал богат, так все небось вспомнили меня! Мне ведь деньги также не даром достались; стану я их раздавать всяким бездельникам!
Маша чувствовала, что с языка ее готов сорваться целый поток упреков брату, что она не в состоянии владеть собой, и потому поспешила уйти в свою комнату. Она была возмущена до глубины души. Никогда, никогда не ожидала она от брата такой скупости, такой жестокости! Тут сразу пришли ей на память разные мелкие случаи из их домашней жизни, которые она до сих пор оставляла без внимания: вспомнилось ей, как часто, как много тратит брат для своих собственных удовольствий, для удовлетворения своих прихотей и как он расчетлив всегда, когда приходится помогать другим, — и сердце ее сжалось: то, что ей иногда смутно представлялось и что она отгоняла от себя, как несправедливую мысль, было правда — ее брат черствый эгоист, думающий, заботящийся о себе одном. Тяжело, невыразимо тяжело для Маши было убедиться в этом! Ей так хотелось любить брата, так хотелось уверить себя, что он холоден только по наружности, что сердце у него доброе. В первые минуты печаль о том, что она так ошиблась в Феде, заставила ее даже забыть о полученном письме. Но когда она снова вспомнила о нем, вспомнила о бедном Леве, вероятно с нетерпением ожидавшем ее ответа, она почувствовала мучительную тоску.
«Что я напишу ему, — думала она, в волнении расхаживая по комнате. — Неужели написать, что ему не на что надеяться, что он может делать с собой, что хочет, никто не поможет ему… Нет, это невозможно! Я должна что-нибудь сделать для него… Господи, как я глупа! Да ведь у меня же есть свои деньги!» — Маша остановилась, и все лицо ее так заметно просияло, что Люба, с беспокойством следившая за всеми ее движениями, не могла удержаться от вопроса: «Маша, что с тобой?» Маша весело засмеялась.
— Да я вот все ходила да ломала себе голову, как бы помочь Леве, — отвечала она, — а ведь у меня есть свои деньги, я завтра же могу послать ему две тысячи рублей.
— Из твоих денег, Маша? Да ведь у тебя их и без того немного? Ты столько тратишь здесь на меня! А ведь на остальные ты хотела устроить что-нибудь, чтобы нам жить одним, без Феди?
— Ничего, милая, как-нибудь устроимся! Нельзя же не помочь Леве! Ведь ты читала его письмо?
— Маша, какая ты добрая! — вскричала Люба, обнимая свою кузину.
На другой же день Маша написала своему двоюродному брату очень ласковое письмо; чтобы не оскорбить его, она не сообщала ему, как Федя принял его просьбу, но просто предлагала ему принять деньги от нее, уверяя, что деньги эти в настоящее время ей вовсе не нужны и что она очень рада оказать ему услугу.
Первое время Маша и в самом деле не думала, что деньги могут понадобиться ей самой, и радовалась, мечтая о том, как хорошо устроится Лева, благодаря ее помощи. Но вскоре ей пришлось пожалеть, зачем она хоть вполовину не так богата, как ее брат.
Петербургский климат оказывал дурное влияние на здоровье Любы; несмотря на все попечения сестры, она, видимо, чахла. Маша обратилась за советом к докторам, они прямо объявили, что ей не перенести петербургской осени, что ее необходимо везти за границу или хоть в деревню, в более теплый климат. Маша положительно не знала, что делать, на что решиться: ее денег хватало на то, чтобы им вдвоем прожить года два за границей, — но что же они будут делать после? Им придется вернуться назад без гроша в кармане и жить уже совсем на счет Феди. Это была далеко не приятная будущность. А между тем что же делать? Неужели дать зачахнуть бедной девушке? Маша решила обратиться к брату не за помощью — после его отказа Леве она считала это напрасным — а просто за советом.
— Мне кажется, тут и думать нечего, — отвечал Федя, внимательно выслушав все, что говорила ему сестра. — Отошли ее назад к ее отцу, вот и все!
— Федя, да разве ты не помнишь, как неприятна жизнь в доме дяди. Неужели ты серьезно советуешь мне отослать туда Любушку?
— Да что ж тут делать? Не можешь же ты целый век возиться с ней? И так ты уж делала для нее гораздо больше, чем следовало!
Маша не возражала больше. Она чувствовала, что не услышит от брата совета, который могла бы исполнить, и, не говоря ему ни слова, принялась сама придумывать, как устроить и свою, и Любочкину жизнь.
Глава Х. Школьная учительница
Зима. Снег густым слоем покрывает поля и луга. Вдали от железных дорог и проезжих путей, среди невысоких пригорков и густых лесов, раскинулось большое село. Почти посредине этого села возвышается домик, отличающийся от обыкновенных крестьянских изб только несколько большим простором, чистотой и более светлыми окнами. В этом доме помещается сельская школа. Стоит отворить дверь, которая ведет с улицы в широкие полутемные сени, как нас поразит нестройный гул нескольких десятков детских голосов. Из сеней дверь направо отворяется в большую, светлую комнату. Стены этой комнаты не оклеены обоями и даже не оштукатурены, пол в ней некрашеный, она заставлена простыми белыми деревянными столами и такими же скамейками. На этих скамейках сидят десятка четыре крестьянских ребятишек; одеты они бедно, руки и лица их далеко не безукоризненной чистоты. Вообще, школа с первого взгляда поражает нас как бы отсутствием порядка: дети не сидят чинно, вытянувшись в струнку, не ожидают в почтительном молчании вопроса учителя, они даже не все заняты одинаковым делом; перед некоторыми из них открыты книги; они читают и, видимо не умея еще читать про себя, выговаривают слова вполголоса, часто обращаются к соседям за объяснением непонятного, смеются над выражениями, которые представляются им забавными, делают свои замечания на прочитанное; двое мальчуганов до того углубились в свое занятие, что, казалось, забыли все окружающее: они заткнули уши руками и читают почти совсем громко; трое других, привлеченные интересом их чтения, побросали свои книги и слушают их, притаив дыхание. Другие дети пишут; они старательно выводят на досках крупные буквы, у многих похожие на какие-то каракули, и при этом часто останавливаются, делают какое-нибудь замечание насчет своей или чужой работы. Около большой черной доски, висящей на одной из стен комнаты, стоит кучка детей. Школьная учительница объясняет им какую-то арифметическую задачу, они внимательно слушают, беспрестанно прерывают ее вопросами и силятся сами повторить ее слова, чтобы доказать, что поняли объяснения.
Дверь в соседнюю комнату отворяется, и на пороге ее показывается высокая, стройная молодая девушка.
— Два часа давно пробило. Маша, — обращается она к учительнице, — пора тебе кончать!
— Слышите, дети, — провозглашает учительница, стараясь говорить как можно громче, чтобы все дети услышали. — Пора кончать, покажите мне свое писание, да и по домам!
— Дочитывай, дочитывай, Петруша, — ласковым голосом отвечает учительница, — я тебя не гоню.
Десяток ручек протягивается к ней с исписанными досками. Одних она хвалит, другим говорит печальным голосом:
— Вот ты опять не постарался, завтра придется тебе писать то же самое! — Третьего поощряет, замечая — Ну, ничего, уж лучше идет, еще немного постараешься, так и совсем будет хорошо!
Шумная ватага детей выбегает из школы и рассыпается по деревне, спеша по домам пересказать маленьким братишкам и сестренкам, матерям и старым бабушкам все, что было рассказано и прочитано в школе. Петруша выходит после всех. Он не догоняет товарищей, он не бросает снежков, он не скользит по замерзшим лужам, как они, он идет, опустив голову и о чем-то призадумавшись: прочитанный рассказ, видимо, произвел на него сильное впечатление, зародил в нем какие-то новые мысли. Маленькой головке трудно справиться с этими мыслями, но мальчик не отгоняет их; по серьезному выражению его личика видно, что вслед за ними пойдут другие, третьи и мальчуган уже не будет больше смотреть бессмысленным ребенком на все окружающее…
Проводив детей, учительница — вы, конечно, догадались, что это была наша старая знакомая Маша или Марья Сергеевна Гурьева — вышла в свою комнату. Комната эта, помещавшаяся рядом со школой, была просторна и светла, но меблирована совсем просто. Темная шерстяная перегородка разделяла ее на две части: в одной, меньшей, стояли две кровати, небольшой комод и платяной шкаф; другая, большая, — играла, по-видимому, роль и гостиной, и кабинета, и столовой. У одного из окон ее стоял обеденный стол, около которого хлопотала также наша старая знакомая, Любочка. Полтора года спокойной, здоровой жизни очень изменили ее: она значительно пополнела, на щеках ее появился румянец, глаза ее глядят бодро и весело.
— Знаешь, Маша, — сказала она, уставляя приборы на столе, — как я далеко сегодня ходила: я была в Прохоровке, у столяра: его жене лучше, она скоро совсем выздоровеет.
— В Прохоровке? Это ты, значит, прошла больше пяти верст пешком? И не устала?
— Как видишь, нисколько. Ведь я же теперь совсем здорова! Столяр просит тебя принять в школу его двух сыновей.
— Что же, отлично! Только они ведь еще маленькие, как же им ходить такую даль.
— Ничего, им так хочется учиться! Как тебя все хвалят, Маша! Старик Сидор говорит: «Мы сначала боялись посылать ребят в школу, думали, только баловаться будут; а теперь рады-радешеньки, видим, что Марья Сергеевна подлинно учит их уму-разуму»; а Матрена, Кузнецова жена, хотела прийти сама благодарить тебя, говорит: «Прежде сообразу никакого не было с мальчишкой, такой был озорник, а теперь совсем другой стал, придет домой — книжку читает, сестре маленькой рассказывает что-нибудь, да так толково, что заслушаешься».
Марья Сергеевна краснела и смеялась, слушая эти похвалы; они, видимо, доставляли ей большое удовольствие.
Сестры сели за стол. Их единственная прислуга, толстая Марфа, подала им обед, состоявший из двух простых, но вкусно приготовленных кушаньев, за которые они принялись с большим аппетитом. Не успели они доесть последнего, как Любочка вскочила с места:
— Господи, какая я ветреная! — вскричала она. — Совсем забыла, что кузнец ездил сегодня утром в город и привез тебе письмо. Куда я его засунула? Да, вот оно!
Она подала сестре письмо. Получение писем в деревне всегда доставляет необыкновенно радостное волнение. Марья Сергеевна взяла нетерпеливой рукой пакет.
— Это от Феди, вот странно, он больше года не писал! — вскричала она и принялась громко читать следующие строки:
Милая Маша! Я не скрыл от тебя, как огорчил и даже раздражил меня твой внезапный отъезд из Петербурга и тот странный образ жизни, который ты себе избрала. Надеюсь, что полуторагодовой опыт доказал тебе всю нелепость твоего выбора и заставил тебя раскаяться в нем. Если это так, тебе еще есть возможность отказаться от своего безумного намерения проводить жизнь в глухой деревне. Мне представился на днях случай очень выгодно купить большой дом, который при разумном управлении принесет мне немало дохода. Вследствие этого у меня еще прибавилось хлопот, и мне было бы очень приятно иметь подле себя такую помощницу, как ты. В настоящее время состояние мое позволит мне доставить тебе более удобную и веселую жизнь, чем та, какую ты вела при первом твоем приезде в Петербург. Круг моего знакомства значительно расширился, так что тебе, вероятно, не трудно будет найти в числе моих знакомых людей по душе себе. Подумай о моем предложении, сестра, подумай о нем серьезно. Теперь я вполне дружески и искренно предлагаю тебе разделить мою спокойную и богатую жизнь, но не знаю, соглашусь ли я когда-нибудь повторить это предложение, если ты ответишь на него отказом, если ты не согласишься немедленно бросить ту нелепую, можно сказать, унизительную жизнь, какую ты ведешь в настоящее время. Прощай, не торопись с ответом, впрочем, кажется, тебе нечего колебаться.
Любящий и сожалеющий тебя брат Ф.
По прочтении этого письма в комнате несколько минут господствовало молчание. Марья Сергеевна отклонилась на спинку кресла и задумалась; Люба тревожно следила за выражением ее лица. Первая заговорила Люба.
— Ну, что же, Маша, — сказала она, стараясь придать голосу своему спокойное выражение. — Поезжай в Петербург, обо мне тебе нечего думать, я поеду к Леве, он будет очень рад, если я соглашусь пожить у него на заводе.
— А мои здешние ученики? А наши мечты о том, как с будущего года школа увеличится и ты будешь помогать мне? Я все это брошу и поеду — зачем? Помогать Феде наживать деньги? Да он это и без меня отлично умеет!
Марья Сергеевна была, видимо, взволнована, она встала с места и большими шагами ходила по комнате.
— Ты все говоришь о других, Маша, — заметила Любочка. — Отчего же тебе не позаботиться о себе самой, не пожить для себя, для собственного удовольствия?
— Не понимаю я, — вскричала Марья Сергеевна, — как это так жить для собственного удовольствия? Разве мне не доставляет удовольствия, что ты стала теперь совсем крепкой и здоровой? Разве мне не доставляет удовольствия, когда я вижу, что мои ученики начинают любить учение, что в них является любознательность, что, может быть, благодаря мне, они сделаются умными и смышлеными людьми? Неужели ты думаешь, что вкусный обед или богатая комната в доме Феди доставят мне больше удовольствия? Ты посмотри только, как я здесь растолстела, какая я стала румяная и веселая, разве всякий, взглянув на меня, не скажет, что я живу в свое удовольствие?
— Но ведь ты же сама иногда находишь, Маша, что не худо бы нам иметь хоть несколько человек знакомых из людей образованных?
— Что ж, это правда, только это все же не такое большое неудобство, чтобы из-за него стоило бросать нашу хорошую, счастливую жизнь. Пусть Федя думает обо мне, что хочет, пусть он жалеет меня, а я считаю себя счастливей его и ни за что на свете не стану жить «в свое удовольствие» так, как он.
Информация о первоисточнике
При публикации материалов в сети интернет обязательна гиперссылка:
"Православная энциклопедия «Азбука веры»." (http://azbyka.ru/).
Брат и сестра сидели молча на тахте в комнате, в темноте и не решались выйти из
своего укрытия к родителям, с которыми предстояло тягостное объяснение. Володя
обнимал свою сестру Иру, успокаивающе поглаживая рукой по вздрагивающей от
тихого рыдания спине девушки. Мучительно переживая, он вспоминал о тех событиях,
приведших к этому жуткому дню.
Всё началось с того дня, когда старшая сестра, двадцатилетняя Таня, привела в
квартиру Михаила. Она объявила родителям, что он будет её мужем и с этого дня
Михаил будет жить вместе с ней. Родителям ничего не оставалось, как согласиться.
До этих пор у Володи была собственная комната в трехкомнатной квартире
родителей. Маленькая, но своя. В другой в самой большой комнате гостинной спали
родители, а в средней спала Таня и другая сестра Ира. Но в этот день комфорт
Володи кончился. Родители, сделав перестановку мебели и купив дополнительную
тахту, переселили сестру Иру в комнату брата, уступив её место рядом с Таней
Михаилу. Володя и Ира были близнецами. Они, прожив вместе шестнадцать лет в
одной квартире и проучившись почти десять лет в одном классе, так и не стали
друзьями. У Володи были свои интересы - друзья, игры, спорт, рок, у Иры свои -
подруги, танцы, наряды, эстрада, кавалеры. И вот теперь Володе предстояло жить в
одной тесной комнате с Ирой. И хотя он ничего не имел против своей сестры и
относился к ней хорошо, Володя был очень недоволен этой ситуацией. Единственно
его успокаивало то, что через Иру ему будет легче наладить контакт с её лучшей
подругой Юлей, в которую Володя был уже почти два года тайно влюблён. Уже с
первого вечера, который брат и сестра провели вместе в комнате, они впервые
по-родственному сблизились, проговорив почти до полуночи. Володя был приятно
удивлен, узнав, что Ира очень интересная собеседница, общительная, с хорошим
чувством юмора. После этого они стали не только близкими родственниками, но и
друзьями. Но самое главное, что обнаружил Володя и на что он раньше не обращал
внимание, что его сестра очень красивая девушка. Володя это обнаружил в первое
утро, когда он через полусомкнутые веки наблюдал за одеванием своей сестры. Ира,
думая, что брат спит, спокойно одевалась, ничего не подозревая. Володя,
приоткрыв глаза, видел, как стоя боком к нему в короткой до бедёр ночнушке, Ира
одела белые трусики и скинула с себя ночнушку. Володя впервые видел так близко
почти голую девушку. У него под одеялом аж дух захватило от гармонии и красоты
тела его сестры. Она была только в одних тоненьких трусиках в двух метрах от
него и ему было отлично видно её стройные точеные ноги, тонкая талия над
округлостью бедер и восхитительные чуть вздёрнутые налитые свинцовой спелостью
женские груди, которыми Володя не успел налюбоваться, так как Ира скоро одела на
себя лифчик. Но эти мелькнувшие две девичьи груди ещё долго маячили в сознание
юноши. На уроках в школе Володя всё время поглядывал в сторону своей сестры. Он
и раньше поглядывал в её сторону, но он смотрел тогда только на сидящую рядом с
ней её подругу Юлю. Но теперь он смотрел на них обеих. Сравнивая их, Володя
видел, что Ира также красива лицом, как и её подруга. Володю всегда поражала
красота лица Юли, её смеющиеся карие глаза, ямочки на слегка скуластых щечках,
полные чувствительные губки-бантики, точёный подбородок и непослушные густые
длинные до плеч каштановые волосы. Но в этот день он видел, что короткие,
светлые, как и у него, блондинистые волосы Иры, её черные огромные глаза, слегка
курносый носик над прелестным ротиком были ничуть не хуже, чем у её подруги.
Володя, зная, что они с Ирой очень похожи, мог считать себя тоже красивым
парнем. Ира и Юля, заметив постоянное внимание Володи, о чём-то зашептались и
громко рассмеялись, чем вызвали замечание учителя. Поздно вечером Володя и Ира
опять долго разговаривали. Наконец они замолчали, обволакиваясь пеленой сна.
Вдруг непонятные звуки доносившиеся через стенку комнаты старшей сестры перебили
их сон. "Чем они там занимаются?" - спросил Володя у сестры. "А ты, что не
знаешь, чем они еще могут заниматься? Трахаются, конечно!" - с улыбкой ответила
Ира. "А нельзя ли потише?" - не успокаивался Володя. "Можно, но им так больше
нравится". Звуки из-за стены всё усиливались.
"Слышь, Володя, пойдем посмотрим, как они это делают" - азартно предложила Ира.
"Да, ты, что!" - стал возражать Володя: "Вдруг они увидят, да и дверь наверно
заперта на замок". "Не бойся" - сказала решительно Ира, уже вставая с постели:
"Они в этот момент ничего вокруг не замечают, а от их двери у меня ещё остался
мой ключ". Видя, что Ира не оставит свои намерения, Володя встал с постели и в
одних трусах шагнул в коридор вслед за своей сестрой. В полумраке коридора они
тихо подошли к двери комнаты Тани. Ира нагнулась вперед лицом к замочной
скважине, и её и так слишком укороченная ночная рубашка поползла вверх, сильно
оголив круглые ягодицы. Володя уставился на полностью обнаженные от бедер ножки
сестры. Но то, что он увидел, когда Ира, повернув в скважине свой ключик,
бесшумно приоткрыла дверь, вмиг оторвало его взгляд от её ног. Закинув руки за
распущенные черные кудри головы, гибко извиваясь, как большая рыбина попавшая в
рыбацкие сети, спина старшой сестры двигалась вверх вниз. Под её шарообразными
виляющими ягодицами чернел член, лежащего на спине под ней Михаила. Володя и
Ира, напрягая глаза в темноте видели, как член Миши под громкие стоны
удовольствия входил в его партнершу. По громкости вскрикиваний, было ясно, что
дело подходит к оргазму. Спина и зад Тани ещё сильнее задвигались, их стоны и
охи влились в постоянный звук разной тональности, напоминающей крики болельщиков
на футбольном поле. Тело Тани переломилось в сильном порыве и она, прижавшись к
груди мужчины, забилась в сильных конвульсиях. Как только стоны наслаждения
стали затихать, Ира тихонько прикрыла дверь и пошла в свою комнату. Володя,
придавленный увиденным, поплелся за ней. В комнате брат и сестра залезли под
свои одеяла. Они попытались поговорить, но то впечатление, которое произвел на
них подгляданный момент полового акта не располагало к беседе. Они молча
пытались заснуть. Но сна не было. Володя, ворочаясь в своей постели, пытался
отогнать стоящую у него в думах картину оргазма Тани и Миши, но все попытки
мысленно переключиться не имели успеха. Его размышления всё время обратно
возвращались к ним. Он был сильно возбужден и его член под мягкой трикотажной
тканью трусов был возбужден до эрекции и требовал к себе внимание, чем ещё
больше возбуждая мысли юноши. Володя понял, что пока не разредит возбуждение, он
не сможет просто так уснуть. Он просунул под одеяло руку и запустил её под не
тугую резинку его трусов. Его ладонь нашла налитый кровью член. От его ласкающей
руки по телу пошли приятные нервные волны и ему сразу стало легче. Володе в
последнее время часто приходилось прибегать к онанизму, но в этот раз ему было
особенно приятно. Фантазируя, что он лежит вместо Миши под Таней, потом вместо
Тани оказалась Юля, затем Ира. Через несколько сладких мгновений он дёрнулся под
одеялом всем телом, облив свою ладонь обильным горячим семенем. После этого
Володе сразу полегчало. Нервы успокоились, во всём теле воцарилась слабость,
глаза стали слипаться. Вытерев член и руку об край простыни, Володя быстро
погружался в сон. Ире в эту ночь тоже было не до сна. Она была крайне
возбуждена. Её мысли переключались то на увиденное в комнате старшей сестры, то
на то, что с ней произошло в конце последнего лета. Это случилось два месяца
назад. Его звали Юра. Они познакомились на танцах в летнем парке, где Ира была
вместе с подругой Юлей. Юра был старше Иры на три года и у него был отцовский
автомобиль, на котором после танцев они веселой компанией катались по спящему
городу. В этот вечер они договорились с Юрой встретится завтра. На следующий
день Ира, покуривая импортные сигареты, которыми угостил Юра, сидела на переднем
сидение "Лады" мчащейся по блестящему от дождя мокрому асфальту и наслаждалась
музыкой, скоростью и вниманием, сидящего рядом с ней за рулем симпатичного Юры.
Хотя с погодой им не повезло и лил сильный дождь, всё равно Ире всё нравилось.
Скорость, музыка и уверенный в себе молодой мужчина - это то, что ей больше
всего нравилось. Вскоре Юра сбросил скорость и притормозив, свернул с дороги.
Машина въехала на просторное ухабистое не давно скошенное поле. Выключив
двигатель и приглушив музыку, Юра со словами: "Проклятый дождь! Придётся
устраивать пикник в машине" - достал с заднего сидения сумку и стал из нее
доставать прихваченные собой припасы. Продуктов было не много: несколько яблок,
бутылка "Pepsi Cola", плитка шоколада и небольшая фляжка. Юра отвернул пробку и
по салону растекся душистый крепкий аромат. "Это коньяк?"- догадалась Ира. "Не
просто коньяк, а французский! Я его отлил из бара папаши" - протянул Юра фляжку
Ире. Хотя Ира уже не однократно пробовала коньяк в кафе с девчонками и этот
напиток ей нравился, для приличия она стала отказываться. "Зря отказываешься" -
убеждал ее Юра: "Чем меньше выпьешь, тем больше придется выпить мне. А я за
рулем. Если я все выпью, то за сохранность наших драгоценных жизней не ручаюсь".
После такого весомого довода Ире ничего не оставалось делать, как взять фляжку и
глотнуть из неё. Ира вообще не любила притворяться и почти всегда делала то, что
ей хотелось. Коньяк обжег Иру внутри, оставляя приятный вкус во рту. Юра тоже
сделал глоток и отломал кусочек шоколада. Закусив, снова протянул фляжку
девушке. Сидя в автомобиле и слушая музыку, Юра и Ира передавали друг другу
фляжку пока она почти не опустела. Юра, придвинувшись ближе к Ире, обнял её за
плечи и, закинув её головку на спинку сидения, крепко поцеловал девушку в губы.
Ира любила целоваться и, как правило, целовалась всегда и со всеми, кто ей из
ребят хоть немного нравились. Но в этот раз, то ли от коньяка, то ли от поцелуя,
у неё сильно закружилась голова. Она попыталась встряхнуться и, отстранив
тянувшегося к ней Юру, приоткрыла дверь автомобиля. Поток свежего воздуха слегка
отрезвил девушку. Ира увидела, что дождь уже закончился. Душистый запах
скошенный травы манил на приволье. Ира выскочила из машины и, закинув руки за
голову, сильно потянулась. "Юра, как хорошо! Выходи, пойдем погуляем" - с этими
словами, Ира скинула босоножки и босиком пошла по сырой траве. Юра, не хотя,
вылез из автомобиля, снял туфли и носки, закатал до колен джинсы и пошел вслед
за удаляющейся Ирой, которая слегка покачивалась от хмеля. Ира увидев, что её
нагоняет Юра, задорно хихикая, стала от него убегать. Юра бросился её догонять.
Бегая друг от друга, громко хохоча, Ира и Юра не заметили, как затишье перед
дождём кончилось. С неба обрушился поток дождевого ливня. До машины было не
далеко, метров сто, но и этого хватило, что добежав до машины, они сильно
вымокли. Сначала Ире было весело, но скоро стало холодно до озноба. Юра включил
двигатель и в салон пошел тёплый воздух. Стекла машины запотели от пара
исходящего от их мокрой одежды, но Ира не могла согреться. Юра дал девушке
допить остатки коньяка. Напиток немного согрел, но в мокрой одежде чувствовалось
не уютно. Юра снял с себя рубашку и, выжив ее, стал снимать джинсы. "Разденься"
Сказал он Ире: "Пока одежда мокрая, мы не согреемся". "Какой хитрый! Так я и
разденусь". "Ты, на пляже в купальнике ходишь, а тут стесняешься" - оставшийся в
плавках, спокойно сказал Юра. "А правда, что стесняться" - произнесла не умевшая
хитрить Ира и начала расстёгивать свою юбку. Ей даже была занимательна эта
ситуация. Она сняла с себя мокрую юбку и блузку, оставшись только в аккуратных
белых трусиках и лифчике. Юра залюбовался сидящей рядом с ним девушкой. Детское
невинное личико с яркими большими глазами и молодое тело Иры, её округлые бедра
и, туго стянутые лифчиком, налитые тяжелой упругостью груди вызывали в сознание
юноши сильную страсть. Он обнял, слегка дрожащую от холода, Иру и снова
поцеловал её в губы. Прижавшись к теплой мужской груди, Ира почувствовала, как
тепло возвращается к ней. Ей сразу стало уютней и лучше. Она, как птичка
раскрыла свой ротик, подставляя его для поцелуя. Юра целовался мастерски. Сразу
чувствовался его опыт, не то, что с ребятами сверстниками, с которыми раньше
приходилось целоваться Ире. Под градом его ласок Ира не сразу заметила, как Юра
ловко нажал на специальные рычаги и спинка кресел автомобиля опустились вниз,
приведя их в лежачие положение. Юра крепко прижался к желанному телу девушки,
крепко обнимая и целуя её. От его ласок у Иры снова закружилась голова. Она
ощущала себя так хорошо, что лучше и не бывает. Ей уже казалось, что Юра самый
любимый и лучший. Когда Ира почувствовала, как быстрые пальцы Юры ловко
расстегнули застежку её лифчика, и он спружинив, съехал вниз, обнажив её упругие
хорошо сформированные груди, она попыталась воспротивиться, но юноша уже мял и
целовал её груди. Его поцелуи и особенно нежные покусывания на её крепких сосках
резким приятным эхом отозвалось по её расслабленным нервам. Ира ощутила какое то
новое до сих пор не познанное состояние её тела. Хотелось, чтобы эта игра была
бесконечна. У Иры уже были случаи, когда мальчишкам во время поцелуев в укромных
местах удавалось расстегивать её лифчик, но дальше этого она их не допускала.
Когда Юра стал стаскивать с её бедер её последнее одеяние, она сделала только
слабую попытку удержать их, но ей это не удалось. Юра священнодействовал. Он
нежно и ласково гладил совсем обнаженную девушку своими слегка шершавыми
ладонями, возбуждая её эрогенные точки. И когда Ира почувствовала, что его
пальцы ласкают её нетронутое влагалище в ней сразу вспыхнул ураган желания. Ей
казалось, что там в её влагалище находится то место, которое давно жаждало ласки
и наконец этот момент наступил. Ира воспринимала происходящие, как во сне. Она
не думала о последствиях и не испытывала страх. Коньяк и опытные ласки Юры
сделали своё дело. Девушка не сопротивлялась. Юра, приспустив свои плавки,
раздвинул её ноги и лег своим телом не неё, придавив Иру к шерстяной обивке
сидения. Юра, не зная, что перед ним девственница, не церемонился с ней,
уверенно нашел своим крепким членом входное отверстие влагалища и с размахом
ввёл в него на всю длину. От резкой неожиданной боли Иру всю передёрнуло. Она,
стиснув зубы, тихо завыла. Только в этот момент Ира полностью осознала, что с
ней произошло. Мысленно она удивилась, что это её не ужасает, а только досада,
что все произошло так буднично и быстро. Юра, не замечая состояние Иры, делал
поступательные движения, испытывая сильное наслаждение. Ира понимая, что уже
ничего не исправить и нет смысла винить Юру и себя, она попыталась познать то,
для чего всё это произошло. Сильная жгучая не утихающая боль во время движения
мужского члена внутри её влагалища заглушили остатки прежнего возбуждения. Юра
громко засопел и сильней заработал своими бедрами. Ира, вспомнив, что знала об
этом состоянии мужчины и, что при этом происходит, с силой оттолкнулась ногами
от передней панели автомобиля и поддалась при этом вверх. Член Юры выскользнул
из её влагалища. В этот момент Юра громко застонал и его член выплеснул струйку
спермы, облив нежную кожу внутреннего бедра девушки. Когда Юра слез с тела Иры,
он обнаружил, что его член в крови. "Ты, что в первый раз?" - удивленно спросил
Юра. Уж слишком легко она отдалась ему. "А тебе, какое дело!- грубо ответила
недовольная Ира: "Отвези меня домой". Юра попытался приласкать девушку, но Ира
резко оттолкнула его и, сдерживая слезы, начала одевать свою ещё сырую одежду.
После этого дня Юра пытался еще раз встретится с Ирой, но она избегала с ним
встречи. Ира сама не понимала почему, но видеть Юру не хотела, хотя о нём
вспоминала часто. Скоро она узнала, что Юра поступил в институт и уехал из
города.
* * *
На следующий день была суббота и в школе был выходной. Вся семья собралась за
обеденным столом. Поедая вкусные пельмени, которыми славилась мама, близнецы
переглядывались между собой, красноречиво косясь на старшую сестру и Михаила,
аппетитно поглощающих вкусную еду. Ира и Володя весь день не находили себе места
в ожидании, чего-то не понятного. Только к ночи, когда вся семья улеглась спать,
они поняли, что они весь день с нетерпением ждали. Не раздеваясь, они тихо
сидели на тахте до тех пор, пока из-за стены послышались знакомые звуки. Не
сговариваясь, молча встали и тихо вышли в коридор. Ира также бесшумно, как и
вчера, отворила своим ключом дверь и чуть-чуть приоткрыла. Им неожиданно
повезло. В этот раз Таня и Миша наслаждались любовью не выключая лампу, которая
стояла на тумбочке у кровати и розовым цветом через красную ткань обожура
прекрасно освещала происходящие. Игра была в самом начале. Миша и Таня лежали в
обнимку на кровати совсем голые. Их обнаженные тела отливались розовыми
оттенками из-за освещения. Володя впервые видел так близко полностью обнаженную
женщину и эта женщина была его двадцатилетней сестрой. Он давно заметил, что его
старшая сестра очень хорошенькая. Но сейчас ему предстала возможность
полюбоваться ею вдоволь. Чуть-чуть полноватые ножки, пухлые круглые ягодицы и
большие тяжелые груди в сочетание с тонкой талией, узкими покатыми плечами и
высокой стройной шеей пленяли взор своей гармоничной женственностью. Миша, по
сравнению с её красотой, с его длиннющими ногами, с худой грудью и ребристыми
боками, казался уродом. Только его вздернутый вверх длинный член был достоин
внимания, особенно у самой Тани. Она, обнимаясь с Михаилом, не отпускала руку с
его члена. Таня, то нежно мяла его яичник, то сжимала его член у основания, то
обхватив за подвижную кожицу у головки, делала рукой скользящие вверх-вниз
движения. Частыми поцелуями в грудь лежачего на спине мужчины Таня спустилась
лицом к его животу, затем к его члену. Любуясь членом Миши, словно любимой
игрушкой ребенок, девушка стала играться с ним, нежно целуя и облизывая по всей
его величине. Поигравшись с ним, Таня поглотила ртом торчащую вверх красную
головку члена и начала усердно сосать. Миша, раскинув руки и ноги, воспринимал
эту ласку, как обычную и должную, но Володя и Ира, видя, что проделывает их
старшая сестра, воспринимали острее, чем наверно сам Миша. Брат и сестра, с
замирающим сердцем, смотрели на откровение разыгравшиеся перед ними. От
возбуждения у Володи дрожали ноги. Он тихо опустился на колени, на него сверху
налегла телом, внимательно смотревшая в щелку Ира. Она была возбуждена еще
сильнее, чем брат, так как знала в жизни по более его. Миша тем временем, также
возбужденный действиями Тани, потянул на себя тело девушки и, уложив её сверху
"валетом", так, что её ягодицы были над его головой, а её влагалище перед его
лицом. Он, прижимая руками ягодицы девушки к себе, стал лизать языком влагалище.
Таня, продолжая сосать его член, вся заерзала от удовольствия. Так они ласкались
несколько минут. Володя и Ира всё ждали, когда партнеры прервут эту ласку и
приступят к самому акту. Но Таня и Миша не собирались отрываться от этого
занятия и довели дело таким образом до конца. В момент оргазма Таня задергала
своими ногами и телом, а Миша подался вперед, выгнувшись в невысокий
акробатический мостик, громко охая от удовольствия. Таня, не выпуская изо рта
его член, высасывала в себя все соки, наслаждающее урча, как котенок. У себя в
комнате Володя и Ира долго молчали, переживая увиденное. Они были так сильно
возбуждены, что не могли даже разговаривать. Выключив свет и раздевшись в
темноте, близнецы улеглись под свои одеяла. Володя попытался заставить себя
уснуть, но напряженно торчащий член возвращал его мысли обратно в комнату его
старшей сестры. Он понимал, что если снова не успокоит рукой свою возбужденную
плоть, то не уснет. Володя начал под одеялом онанировать свой член. Иру в
постели всю ломило от сильнейшего возбуждения. Она была в таком состоянии, что
ей казалось будто она сходит с ума. Вдруг Ира услышала шуршание в постели брата.
Присмотревшись в темноте, она увидела движение под его одеялом. Она поняла, чем
он занимается. И тут ей пришла шальная мысль, от которой она сразу попыталась
избавиться, но эта жуткая мысль не отпускала ее. И Ира не выдержала. "Володя" -
тихо позвала Ира. "Что?" - прекратив движение под одеялом, спросил он. "Ляг ко
мне". "Зачем?" - не понял Володя. "Так надо, ну пожалуйста!" Володя натянул на
себя приспущенные трусы и, прикрывая выпученную над членом ткани трусов, подошел
к тахте своей сестры. Ира откинула одеяло и отодвинулась, уступая место. Как
только брат улегся рядом, девушка прижалась к нему, обдав его своим теплом. Тут
только Володя полностью осознал, что сейчас произойдет. От этой мысли он
судорожно дёрнулся. В мгновение ему вспомнилось, как он в прошлое утро любовался
за переодеванием Иры. Он вспомнил её тело, груди и ноги, и напрочь забыл, что
Ира его родная сестра, что он любит Юлю, что есть родители и школа. Чувствуя в
своем объятии прекрасное молодое тело девушки, ощущая под её тонкой ночной
рубашки тугие груди, прижимаясь своим членом к её оголенным из-за вздернутой
ночнушки бедрам, юноша пылал страстным огнем. Володя ощутил, как Ира
нетерпеливым движением, приспустила его трусы и, обхватив ладонью его твердый
ствол, подлезла под него. Володя, оказавшись между её широко расставленных ног,
надавил телом вперед. Его член точно нашел дырочку её влагалища, плотно войдя в
скользкую плоть. Делая поступательные движения, юноша был на седьмом небе от
наслаждения и от сознания, что он наконец становится мужчиной. Ира, чувствуя,
как член брата входит в неё, замерла в ожидании боли. Но боли не было, только
волны наслаждения исходили из места соприкосновения мужского и женского органа.
Сделав всего около десяти поступательных движений, Володя почувствовал начало
оргазма. К наслаждению примкнула досада, что быстро всё так кончается, но и
чрезвычайно возбужденной Ире этого было достаточно. Она, тихо стоня, чувствуя,
как внутри неё член брата извергает горячий поток спермы. У неё также начался
первый в жизни настоящий оргазм. Она даже не ожидала, что это будет так приятно
и остро. Отдышавшись и прейдя в себя, брат и сестра поняли, что они натворили
что-то ужасное. Особенно не уютно почувствовал себя Володя. Он считал себя во
всем виноватым, а воспоминание о Юле, в которую он был влюблен и которую, как он
считал, сейчас предал, совсем испортило ему настроение. Он молча перелёг на свою
тахту. Хотя у него были не лады со своей совестью, Володя мгновенно заснул. Иру
тоже мучили угрызения совести, но то наслаждение, которое она познала,
Игорь вступил в эту новую для него жизнь с большим темпераментом. Он с ненасытностью почти ежедневно искал встречи с Ирой и Юлей и всегда доводил дело до полнейшего всеобщего удовлетворения. Володя, видя с какой страстью его друг овладевает девушками, сам воспрянул, подзаряжая свой темперамент его действиями и живыми картинами сексуальных актов. Но до уровня темперамента друга, Володе уже было не достичь. Даже были такие моменты, что когда они вдвоем с Игорем были только с одной из одноклассниц с Ирой или с Юлей, Володя иногда оставался только наблюдателем. Но такие случаи были редки. Обычно Володя также, как и его друг, был на высоте и девушки были им вполне довольны. Наступили первые теплые весенние дни. Снег осел и потемнел, и через несколько дней от его былого могущества остались только грязно-белые бугорки в тени деревьев и углов домов. В один из таких дней Игорь пригласил своих друзей на выходные дни на дачу своих родителей. В предвкушении славного уикенда ребята стали отпрашиваться у родителей. Родители Юли, хоть и с трудом, но согласились отпустить дочь. У Володи и Иры обстоятельства складывались не совсем удачно. Когда во время семейного ужина они заявили об этом, неожиданно старшая сестра Таня, спросила: "А можно нам с Мишей поехать с вами?" Володя и Ира молчаливо замерли от такого сюрприза. Родители, радуясь возможности опеки старшей сестры над младшими, отпустили их только при условии, что Таня и Миша поедут с ними. Юля и Игорь, узнав о непрошеных попутчиках, тоже были огорчены этим известием, но выбора у компании не было. Час на электричке и около двух километров пешком от станции до дачного поселка четверка одноклассников преодолели в молчании, тяготясь навязанным обществом Тани и Миши, которые не догадываясь об этой печали, наоборот были в прекрасном настроении. Дачный поселок после зимней спячки был еще не обжит. Первые немногочисленные дачники прибыли вместе с ними на электричке. Несколько часов все дружно приводили дачу в порядок. Девушки вымели накопившуюся за несколько месяцев грязь и пыль, вымыли полы, готовили ужин и накрывали стол. Ребята нарубили и наносили дров, растопили камин и финскую баню. После этого стало уютно и тепло. Время было к вечеру и все уселись к столу, который ломился от груды продуктов, так как всех богато снабдили их заботливые родители. Игорь замялся и, посмотрев на старшую пару, достал одну из двух купленных на общие деньги бутылок водки. Миша понимающе улыбнулся и сам достал из сумки бутылку марочного коньяка. Девушки пили коньяк, ребята водку. Немного разговорились. Миша стал обильно сыпать новыми анекдотами. Во время ужина на даче становилось все теплее и теплее. Скоро от ненасытно пожиравшего дрова камина стало совсем жарко. От выпитого и от жары все раскраснелись. Подошло время бани. Ребята вышли в предбанник и, сняв верхнюю одежду, одели плавки. Уступив место в предбаннике девушкам, они отправились в парилку. В парилке приятно пахло горячим деревом. Миша, Игорь и Володя уселись на обжигающие задницы полки и мгновенно покрылись испариной. Через несколько минут, охая от обжигающего жара, в парилку вошли девушки в цветастых купальниках. Парилка была тесная, не рассчитанная на шестерых, но потеснившись все всё-таки разместились на двух узких полочках, прижимаясь друг другу потеющими боками. Юлю на верхней полке стиснули с двух сторон Миша и Игорь, а у них в ногах на нижней полке между сестрами втиснулся Володя. Он уже порядком опьяневший, был возбужден видом трёх полуобнаженных девушек. Особенно его волновала зрелое полунагое тело его старшей сестры. Тело у Тани было в самом расцвете: женственно пышное, но не полное, а наоборот изящное. Пропорции её фигуры были идеальной формы и очень притягательны. Хотя у Иры и Юли были великолепные фигуры, но они по сравнению с телом Тани, были еще не завершены, слегка по-детски угловаты. Первая не выдержала жар парилки Ира и выбежала в душ. За ней Юля и Таня. За ними и остальные. Под охлаждающим душем было тесно и ополаскивались поочередно. Немного остыв, снова отправились в парилку. Володя вышел в зал, чтобы подбросить поленья в угасающий камин. Залюбовавшись языками огня, он не заметил, как в комнату вошла Ира. Присев рядом с братом, она также стала любоваться потрескивающими пылающими дровами в камине. Близость сестры возбудила Володю. Он обнял девушку за еще влажную после душа талию и притянул её к себе. Ира тоже была не прочь заняться любимым делом и податливо прижалась к телу юноши. Прильнув к губам крепким поцелуем, они опустились на горячий пол перед камином и слиплись в страстном объятии. Володя ловким движением расстегнул её розовый лифчик и с жаром начал мять и ласкать ладонями обнажившиеся упругие груди сестры. Ира, откинув в сторону свой ненужный лифчик, уложила Володю на спину, а сама, слегка приподнявшись, просунула пальцы под его мокрые плавки и приспустила их на его бёдра. Теребя в ладони быстро наливающий крепостью член юноши, Ира нагнулась и подвела головку члена к своему лицу. Володя, приподняв голову, наблюдал, как его член мастерски ласкает рот сестры. Он всегда любил, когда Ира делала ему минет. Она это делало очень вдохновенно и творчески. Она действовала не спеша. Начала с легких поцелуев вдоль всего члена, не забывая о мошонке. Потом поцелуи стали все сильнее. В ход пустила язык, слегка облизывая член. Член Володи начал вибрировать, на нем вздулись вены, он весь распух и налился кровью. Слизав с головки первые капельки выделений, Ира медленно вбирала в себя весь член. Рот стал ходить вверх-вниз, медленно и мягко. В тот момент, когда она почувствовала, что Володя вот-вот кончит, сразу переходила опять к легким поцелуям. Володя сходил с ума от такой сладкой пытки. Особенно он остро реагировал на ласку, когда Ира низко зарывалась своим личиком под его ягодицы и буравила кончиком язычка его нежное анальное отверстие. В этот момент Володе казалось, что он просто умирает от блаженства. Затем снова теплые губы сжимали его трепыхающуюся от напряжения плоть и, снова, как только он был готов взорваться оргазмом, Ира выпустила его из своего рта. Легкими поцелуями по члену спустила вниз и, взяв одно яичко в рот, прижала его к небу языком. Потом снова заглотила член целиком до самой глотки. И тут из него полилась густая сперма. В этот момент Ира сама засунула два пальца под свои плавки во влагалище и тоже кончала, сглатывая одновременно сперму брата. В этот момент в комнату вбежал Игорь. "А, вот вы где и чем занимаетесь! Там все волнуются - куда вы пропали. Я тоже хочу!" - с этими словами, он стянул с себя плавки и налег на тело Иры. Она обняла возбужденного Игоря и, повернувшись к брату, сказала: "Володя, ты иди сдержи Мишу и Таню, а то я боюсь, что они придут сюда". Володя нехотя встал и, натянув приспущенные плавки, отправился в парилку. Перед уходом он обернулся и увидел, что Игорь уже стягивает плавки с крутых бёдер его сестры. В парилке Володя застал распаренных улыбающихся Таню и Мишу и встревоженную Юлю. Перекинувшись шутками, он залез на полку рядом с Таней. Его взгляд встретился с вопросительным взглядом Юли. По глазам юноши она поняла, что происходит в комнате. Она сползла с полки и вышла в предбанник, сказав остальным: "Ах, как жарко! Пойду попью". Володе остался один наедине со старшей сестрой и её мужем. Он чётко понимал, что в этот момент происходит в зале. Он с большим удовольствием тоже хотел там быть, но ему нужно было оставаться здесь, чтобы, удержать Таню и Мишу. Он, завидуя Игорю, не отходил от родственников ни на секунду. Они в душ и он за ними, они в парилку и он туда. Одноклассники не возвращались. Таня и Миша стали проявлять беспокойство. Особенно Миша, он всё удивлялся - почему их так долго нет. Он несколько раз порывался пойти посмотреть, но Володя, проявляя чудеса хитроумности, удерживал его, заводя хмельные разговоры. Когда все уже второй раз после душа возвращались в парилку случилось ужасное. Миша, пропустив вперед в парилку Таню и её младшего брата, резко вышел, крикнув им в спину: "Я все-таки посмотрю где все и вернусь". Володе было уже поздно бежать за ним вдогонку и он уже не знал тех слов, которые могли вернуть Мишу. Он весь напрягся, испытывая сильное беспокойство. Сидя рядом с совсем ничего не подозревающей старшей сестрой, он ждал, что вот-вот произойдет что-то жуткое. Но то, что Миша не шумит и не возвращается, еще больше тревожило юношу. Когда Миша неожиданно вошел в зал, он замер от увиденного. На полу лежала на спине, раскинув ноги, полностью голая шестнадцатилетняя сестра его жены. Между её согнутых в коленях ног уткнулось лицом в её промежность стоящая на коленях Юля, выставив вверх свой круглый задик. Сзади этого задика стоял на коленях Игорь, и с наслаждением гулял своим членом в её влагалище. Вся троица, увидев непрошеного гостя, замерла в состоянии испуга. Молчание и неподвижность продлилась несколько минут, пока Ира поняла, что надо спасать ситуацию. Не думая о последствиях, она отстранила голову Юли от своего влажного влагалища и быстро, играя молодым телом, подошла к Мише. Миша молча смотрел на обнаженную Иру. Девушка, загадочно улыбнувшись, опустилась перед Мишей на колени и стянула вниз его скользкие мокрые плавки. Его уже полунапрягшийся огромный член, словно палка ливерной колбасы, мгновенно, точно бы по велению волшебной палочки, стал подниматься, приобретая весьма внушительные очертания, и скоро торчал во всём его великолепии. Ира, обхватив ладонью это чудо, начала щекотать головку члена кончиком языка, затем, как можно широко открыв рот, поглотила его и стала интенсивно сосать. Игорь и Юля, не прекращая акта, но и не начиная движения, всё ещё пассивно продолжали с опаской наблюдать за происходящим. Миша, преодолев первое изумление от внезапной сцены и от неожиданных славных действий Иры, так возбудился, что забыл, о том, что рядом через стенку находится его жена и может в любой момент появиться здесь. Он с каким-то озверелым темпераментом, выдернул свой член изо рта девушки, бросил её спиной на пол и, навалившись на обворожительное тело Иры, ввёл свой громадный член в её влагалище. Поняв, что ничего страшного не произошло, продолжил свою приятную работу Игорь. Миша ввинчивал свой болт в тело девушки и она ощущала, как необычно большой член очень плотно соприкасается внутри с её телом. В эти мгновения по Ире разгуливала жаркая волна сладострастия. У неё уже начался оргазм, но более взрослый и сдержанный Миша всё ещё продолжал мощную атаку своим членом. Володя не находил себе места в душной парилке рядом с Таней. Он терялся в догадках о происходящим в комнате. Прошло около десяти минут, а Миша не возвращался. Таня начала проявлять сильное беспокойство. Володя пытался её любыми средствами удержать, даже силой, когда она сама решила выяснить в чем дело. Таня удивленно и строго глянула на него своими черными глазами и, оттолкнув младшего брата, вошла в раздевалку ведущую в комнату. Володя, весь сжавшись, поплелся вслед за ней. Когда Таня вошла в комнату, она резко отпрянула назад от увиденного зрелища, наткнувшись спиной на влажного распаренного брата. Она не верила своим глазам. Её муж совсем голый посреди комнаты совокупляется с её младшей сестрой-школьницей Ирой. Миша, забыв о стыде и жене, стоял на коленях и притягивал навстречу своему члену круглые ягодицы Иры, которая, выгнув свою спину, стояла на коленях и локтях. Рядом с ними на Юле, задравшей высоко вверх свои стройные ноги, лежал Игорь, и тоже никого не стесняясь предавался удовольствию. Миша увидел вошедшую жену, замедлил движение, но полностью остановиться и прекратить акт не смог. Отвернувшись от укоризненного взгляда жены, он продолжал движение своего члена во влагалище Иры. Ира также очень смутилась, что Таня их засекла, но бывшая во власти Миши и наслаждения, она ничего не предприняла для прекращения этого бесчинства. Таня, ища защиты, прижалась к ещё горячей от банного жара груди младшего брата. Она не знала, что предпринять в данной ситуации. Тане казалось, что ей сейчас может помочь и поддержать только родной брат. Володя в самом деле поддержал слегка обмякшее от чрезмерного волнения тело девушки. Он не только её поддержал, но и крепко обнял. Таня полагала, что это братские объятия, но когда нетерпеливые ладони начали мять её полные груди под мокрой тканью чёрного лифчика, она встрепенулась. То, что и Володя - её младший брат такой же, как и остальные, её просто добило. Злость на мужа, на коварную сестру, на лапающего её младшего брата, который ещё мальчишка, переполняло сознание Тани. Девушка осознавала, что если она сейчас уйдет и оставит всех, то это будет для неё позорно и унизительно. Она была современной и раскованной женщиной. Ей уже приходилось изменять несколько раз своему мужу и она догадывалась, что и он это делает, но так откровенно, как Миша сейчас это делал, её просто бесило. Жажда немедленной мести возникла в её сознание и завладела ей, даже, если это её младший брат школьник. Пальцы Володи уже расстегивали застежку лифчика, туго стягивающего её тяжелые груди. Ткань спружинила с её плеч, оголив красивейшую грудь, которая могла украсить любой секс журнал. Володя, нагнув голову, со страстью стал покусывать удлиненные бусинки сосков и мять ладонью налитые груди девушки. Близость старшей сестры его жутко возбудила. У него в голове проносились картины сцен, которые он ранее наблюдал за Таней и Мишей через дверной проем. Но у Тани было такое состояние, что ни какие ласки не могли её возбудить. Ей даже были смешны и противны его действия. У неё было только одно единственное желание, как можно быстрее отомстить блудливому мужу. Она опустилась вниз на пол, потащив за собой брата. Таня молча сняла с себя плавки и, оставшись полностью нагой, легла на спину в ожидании смотрела на худосочного брата. Перед Володей было обнаженное развитое прекрасное тело двадцатилетней девушки. Её чёрные кошачьи глаза, яркие сочные губы под тонким носиком, округлые великолепные формы тела страстно притягивали его. Он судорожным быстрым движением скинул с себя плавки, освободив свой уже напрягшийся член и лёг на упругое тело старшей сестры между её согнутых в коленках ног. Таня не чувствовала никакой страсти, желая быстрее всё закончить, она нашла рукой крепкий мужской член брата и ввела в своё влагалище. Володя, закрыв глаза от удовольствия, сжал тело сестры и стал делать глубокие ритмические движения своим членом. Таня ожидала, как это обычно бывает у пылких подростков, что Володя быстро кончит и этим все кончится. Но она ошибалась. Её младший брат за последние полгода так натренировался, что хоть и был сильно возбужден, он был сдержан и ненасытен. Движения его по настоящему мужского члена в её теле были долгими и безостановочными, что в конце концов постепенно, чисто механически, они стали возбуждать женщину. Страстное томление постепенно заглушило злость, а то, что она видела, как рядом другие занимаются тем же самым и, то, что они видят ее, для Тани были новые эмоции, которые придавали удовольствию ещё более острый характер. Таня уже почти совсем позабыла о стрессе, предавшись полнейшему наслаждению, но в этот момент, прервав свои движения, кончил Володя. Он, выдернув свой член из её скользкого влагалища, выплеснул мутную тонкую струйку спермы на гладкий живот старшей сестры. Ослабнув, Володя сполз с тела Тани. Она привстала и взглянула на мужа. У него дело подходило к завершающей стадии. Со сладострастным выражением лица он делал глубокие поступления своим громадным членом в её младшую сестру, которая от каждого такого движения постанывала, иногда тихо вскрикивала. Волна злости снова овладела Таней и смешавшись с неудовлетворенной страстью вновь нацелила её на рядом находящегося младшего брата. Он был ещё в этот момент в состоянии апатии после своего оргазма. Таня приподнялась и встала на колени между его ослаблено раскинутых ног. Нагнувшись к его устало лежащему на бедре вялому члену, она приподняла пальчиками его за мягкий ствол. Таня ладонью обтерла остатки спермы с его головки и, вставив ее между своими мягкими губами, начала нежно сосать. Постепенно от этой ласки член Володи начал крепчать и наливаться силой. Вскоре он возбудился. От апатии не осталось и следа. Таня уже собралась выпустить изо рта готовый к работе орган брата, как почувствовала, что чьи-то руки сжали её ягодицы и в её влажное возбужденное влагалище мощно вошел мужской член. Выпустив член брата изо рта, она обернулась. Это был Игорь, который после акта с Юлей снова возбудился видом новой красивой женщины и, как только был готов, сразу приступил к действию. Таня посмотрела на мужа. Он уже закончил с её сестрой и теперь смотрел на свою жену. В его взгляде Таня прочитала ревность, укор и страдание. Торжествуя в душе от чувства мести, она снова поглотила ртом член младшего брата, сосала и лизала его, с наслаждением подставляя свои пышные ягодицы навстречу члену Игоря. Первый кончил Володя. Таня также, как тогда, когда за ней и Мишей подглядывали Володя и Ира, сглотнула и высосала капли мужской спермы. В этот момент она почувствовала подергивание члена Игоря у себя влагалище и горячие толчки его семени. У неё начался очень сильный, жутко острый оргазм. Всё, что накопилось у неё за этот вечер вырвалось на свободу вместе с её криком и стоном наслаждения. Как только усталые Володя и Игорь покинули лежащую на полу обессиленную Таню, на неё сразу же навалился её муж Миша. Он впервые увидевший, как его жена занимается сексом с другими, сходил с ума от ревности и возжелал её, как никогда. Таня увидев, что это её подлый муж, попыталась его оттолкнуть, но Миша шёл напролом и почти силой овладел своей женой. Для Тани новая ситуация тоже была необычна и под напором ласок мужа она снова возбудилась. Скоро на полу в ногах у четверых старшеклассников, которые сверху смотрели на их пылкие движения, Таня и Миша - муж и жена, предавались наслаждению акта, не замечая ничего вокруг, чувствуя, как никогда, острую страсть. Высоко закинув пленительные ножки, Таня постигала оргазм одновременно с мужем, завывая от наслаждения. Очнувшись, они смутились оттого, что на них устремлены сияющие удовлетворением лица четверки молодых развратников. Скоро все вместе опять парились в жаркой тесной парилке, но уже без купальников. После того, что произошло одеваться и скрывать свою наготу не было смысла. Миша и Таня еще чувствовали себя сковано в подобной ситуации, особенно Таня, которая обычно считала себя ответственной за поведение младших сестры и брата. А тут вот такие дела. Зато Ира была в этот момент, как рыба в воде. Она и Юля, бесстыжие и развратные, возбужденные происходящим, не могли успокоиться и прямо в парилке не давали покоя трем юношам. Они, лукаво улыбаясь, трогали их усталые и поникшие члены, играли ими, словно ребенок погремушкой. В конце концов мужские члены снова стали наливаться в их руках силой и желанием. Через минуты член Володи уже оказался в ласкающем рту Юли, а член Миши сосала Ира. На Таню ожидающе смотрел Игорь. Таня медлила, она ещё не могла полностью расслабиться и вести себя, как бесстыжие малолетки Юля и её сестра Ира. Но и бездействие слишком затягивалось. Она посмотрела на своего мужа. Увидев его довольное потное лицо, который снова забыл о сосуществование жены, Таня решилась. Она нагнулась, крепко сжала каменный ствол члена Игоря и, пощекотав его кончиком языка, раскрыла губы и втиснула его розовую головку себе в рот. Игорь аж засопел он нахлынувшего блаженства. Тишину парилки нарушали только сосущие причмокивания девушек и тихие стоны наслаждения ребят. От жары и наэлектризованности молодые тела девушек и юношей стали мокрыми и блестящими от обильного пота. "Я больше не могу. Умираю от жары" - сказала Ира, оторвавшись от члена мужа старшей сестры: "Пойдем в комнату" Вслед за Ирой все сполоснулись под освежающим душем и мокрые расположились на теплом от полыхающего камина полу в зале. Таня, которая тоже уже сильно возбудилась, уложила на пол Игоря и, облизав его увядший после холодного душа член, снова поглотила его пухлыми губами и стала искусно сосать. Она быстро подняла этот мужской орган. Таня увидела, что член юноши уже пульсирует от возбуждения. Она выпустила изо рта его вздрагивающий от напряжения член и легла на тело Игоря, целуя его в губы. Игорь, чувствуя, как его член трется о её пуп, заерзал всем телом. Таня привстала и, держа его член в руке, стала массировать свой клитор его головкой, совершая круговые движения по своим половым губам. Эта была мучительная, но приятная пытка для Игоря. Наконец она засунула его в свои влажные глубины. Член Игоря скрылся в недрах её плоти и Таня застыла ненадолго. Затем она стала двигать попкой вверх и вниз. Игорь, держась за её ягодицы, помогал ей глубже насаживаться на его толстый член. Танины большие спелые груди колыхались перед глазами юноши. Игорь, любуясь, отклонил девушку от себя, чтобы лучше видеть их сверкающую красоту. Таня наслаждаясь сексом с Игорем, не забывала наблюдать за остальными. Она впервые участвовала в групповой оргии и ей было интересно. Её муж лежал у камина на полу валетом с её младшей сестрой и лизал своим языком внутри влагалище молодой девушки. Ира, обхватив за ствол его громадный член, вдохновенно сосала эту плоть. В этот момент Таня не чувствовала никакой ревности. Её младший брат стоял рядом с ними на коленях и вводил свой член во влагалище Юли, которая стояла перед ним, согнув свое стройное тонкое тельце. Стоны наслаждения достигли такой громкости, что казалось, были слышны во всем дачном поселке. Первый кончил Володя, выдернув член и выплеснув мизерную струйку спермы на позвоночник тонкой спины Юли. Следующие были Миша и Ира. Они, как начали в валетном варианте, так и закончили, во время оргазма интенсивно вылизывая своими языками страстные выделения друг у друга. Все это наблюдая, Таня сама подошла к концу. С её губ сорвались стоны, глаза застыли в предвкушении оргазма. Игорь начал отрывать свои бедра от пола, двигаясь ей навстречу, входя в неё всё глубже. Чувствуя, как сокращается влагалище Тани, Игорь взорвался брызгами спермы, которые изверг в её глубины. Был уже четвертый час ночи, все жутко устали. Компания разбрелась по даче в поисках места для сна. Скоро на даче наступила сонная тишина. Юля проснулась от яркого света солнечных лучей, которые пройдя через грязное стекло окна, попали на её лицо. Было уже позднее утро, но на даче все ещё спали. От вчерашних возлияний во рту было сухо, голова кружилась, а тело было липкое, то ли от пота, то ли от мужской спермы. Юля встала, потянулась стройным телом и оглянулась вокруг. Рядом с ней на старом засаленном диване спал голый Володя. Худенький, скрутившейся от холода в комочек, он казался совсем ещё мальчишкой. Юля вошла в каминный зал. У затухшего камина на полу спал Игорь, закутавшийся в половик. В углу зала на диване белели тела, прижавшихся друг другу, спящих сестер. Миши нигде не было видно. Юля, мечтая быстрее смыть липкую грязь со своего тела, пошла в банный отсек. Войдя в раздевалку, она услышала шум душа. Юля заглянула туда и увидела наслаждающего под струями теплой воды Мишу. Этот молодой мужчина оставался всё ещё чужим и то, что вчера всё происходило в его присутствии, очень смущало отрезвевшую Юлю. Она хотела закрыть дверь, но Миша её заметил. Он открыл дверь, Юля стыдливо прикрыла руками лобок и груди. "А, Юля! Ты помыться хочешь? Иди сюда под душ, пока ещё есть вчерашняя теплая вода" - просто сказал Игорь, как будто это была не чужая голая женщина, а его жена. Юля, опустив глаза, нерешительно вошла в душевую и встала рядом с Мишей под согревающие её озябшее тело струи теплой воды. Миша стал ладошками, будто бы обмывая, гладить тело девушки. Он от вчерашней оргии был ещё сильно возбужден, а то, что с ним рядом обнаженная молодая красивая девушка с которой у него вчера ничего не было, кроме возможности за ней наблюдать, разожгло его страсть. Он отвёл руку девушки от её вздернутых вверх сосков грудей и стал ртом ласкать их, слегка покусывая бордовые бусинки. По дыханию Юли было заметно, что она тоже возбудилась. Её соски распухли от желания. Она крепко прижалась к телу мужчины и стала гладить ладонями его скользкую мокрую кожу. Все происходило под струями душа и от этого уютного тепла было еще приятней. Миша опустился на колени и, немного расставив длинные ноги Юли, стал лизать под её лобком по скользким губкам её влагалища, по которым стекали потоки воды на его язык. Затем он оторвался от влагалища Юли, вонзив кончик своего шершавого языка в анус девушки, сверля, проникая языком в глубь анального отверстия. От такой ласки Юля докатилась почти до оргазма. В этот момент Миша прекратил лизать у Юли, встал и, нажав на хрупкие плечи, опустил её вниз на колени. Юля поняла желание Миши. Она взяла в свою маленькую в ручку его напрягший огромный примерно двадцати пяти сантиметровый член и принялась лизать и сосать его, применяя всё своё умение. Через минуту Миша, не желая разрядиться спермой раньше времени, оторвал голову девушки от своего чувствительного органа и поставил её снова на ноги. В душевой было так мало места, что вдвоем было тесно, но уходить из-под теплого потока не хотелось. Миша, прижав своей грудью Юлю спиной к мокрой кафельной плитке стены душевой, слегка приподнял тело девушки. Немного присев, он точным движением ввёл свой фаллос в её влагалище. Ритмично приседая и поднимаясь, Миша стал делать скользящие движения членом, одновременно натягивая руками необыкновенно легкое тело Юли, которая, зажмурив глазки от удовольствия, подставляла своё личико под струи воды. Миша, устав от очень неудобной для него позы, вынул свой член и, перевернув покорное его рукам женское тело от себя, уперся сам спиной к стенке. Юля, выгнувшись, как можно вперед к противоположной стенке, подставила ему свой круглый задок. Обхватив руками эту аппетитную попку, Миша присел и вновь стал лизать выемку анального отверстия, сверля коником языка, стараясь проникнуть в глубь ануса. Юля ещё громче застонала. Миша, подметив чувствительность этой точки у Юли, смазал слюной свой указательный палец и медленно ввёл его в это отверстие. Стон Юли перешел в крик. Мише сначала показалось, что Юле больно, но её действия, когда она, крутя своей попкой, наседала на его руку, стараясь ввести его палец поглубже, опровергли его первые впечатления. Он медленно вытащил свой палец, Юля недовольно застонала. Взяв рукой за крепкий ствол члена, Миша направил его твердую головку в подставленное ему анальное отверстия Юли и, помогая пальцами своих рук, медленно стал впихивать свой член в это жаждущие отверстие. На удивление член легко вошел на всю его длину. Юля, замолкнув и оцепенев от неожиданности, через несколько секунд застонала и заохала ещё громче и пронзительней. Это новое ощущение доставило девушке необычайно сильную бурю чувств, от которых у неё начался оргазм. Вцепившись ногтями в стенку, Юлино тело всё разламывалось на части от острого томления. Миша, будучи старше и сдержаннее ещё не достиг конца. Юля, под впечатлением от познанного, присела к его горячему стволу и начала яростно сосать. Через несколько секунд у Миши начался оргазм. Первая струйка спермы упала на грудь девушки и была смыта душевой водой. Вторая струйка уже упала на нёбо рта Юли, которая ловила ртом головку извергающего семя члена Миши. Ещё находясь в состоянии незатухающего оргазма, Юля всасывала в себя остатки его спермы. Ноги юноши подкосились и он рухнул на кафель пола, прижавшись к телу удовлетворенной девушки. В каминный зал Миша и Юля вошли вместе, обнявшись, мокрые и довольные. Ира и Таня уже не спали, но ещё лежали на диване, не в силах встать после вчерашней оргии. Таня, увидев своего мужа в обнимку с Юлей, снова почувствовала приступ ревности, но постаралась скрыть это от всех. Она понимала, что после вчерашнего, упреки уже ни к чему. В этот момент из другой комнаты вошел голый Володя. Разбуженный голосами, он еле стоял от похмелья на ногах. Юноша также увидел обнимающихся мужа старшей сестры и его Юли. Видя их довольные выражения лиц, он тоже ощутил жуткую ревность и душевную боль. Стыдясь навернувшихся слёз, Володя быстро кинулся в душевую. После долгого предыдущего душа Миши и Юля из крана лилась только холодная вода, струи которой помогли Володе совладать с собой и согнать груз вчерашней попойки.
Днём, когда Оля вернулась из школы, она пошла в родительськую комнату и принялась стелить кровать - она была большая и мягкая, с деревянными шарами по углам и с высокой спинкой. Как только Оля закончила приготовления, в комнату вошла Лиза:
- Подожди 2 минутки, я только в ванну схожу и приду к тебе.
- Хорошо, но только не долго, - ответила ей Оля и закрыла за Лизой дверь.
Оля сняла футболку и шортики, оставшись в одних трусиках - едва ли то, что было на ней надето можно было назвать трусиками, скорее, ниточки, прикрывавшие самие сладкие места 12-летней девочки, такие нежные и сочные. Оля легла на кровать, подняла свои ножки верх и стянула трусики, приоткрыв своё лоно. После этого Оля перевернулась на живот, развела, как могла, широко ноги, вытянув пальчики, а затем просунула свою руку между животиком и кроватью. Слегка теребя свой клитор, Оля стала возбуждаться. Возбуждение стало нарастать с каждой секундой - Оля стала сильнее двигать своей попкой, как вдруг почувствовала, что-то тёплое.
Оля повернула голову и увидела Лизу, неслышно вошедшую в комнату, склонившуюся своим лицом к попке младшей сестры. Лиза дышала в самую дырочку ануса своей Оли. Заметив взгляд Оли, Лиза лизнула дырочку и затем легла на кровать так, что её лицо стало находиться точно между ложбинок олиной попки. Лиза начала нежно полизывать олину промежность, периодически вбуриваясь во влагалище сестры своим мокрым язычком. Язык Лизы скользил по промежности сестрёнки, даря оле неземное наслаждение, от которого Оля слегка приподняла свою попку и стала подавться навстречу языку старшей сестры. Как и тогда в ванной, Лиза стала возбуждаться от того, что доставляла удовольствие своей маленькой сестричке. Оля постанывала и двигалась в такт движениям языка Лизы, когда та ни с того, ни с сего прекратила ласки и отстранившись от Оли встала.
Ты чего? - спросила, слегка расстроившись, Оля.
- Тоже хочу раздеться. Или мне прикажешь в одежде развлекаться?
- Нет, кончено, раздевайся. Мне так даже больше нравиться, - улыбнувшись, сказала Оля.
Лиза сняла с себя джинсы и кофточку, оставшись только в белоснежном бюстгальтере и трусиках.
А это сними с меня ты, - сказала Лиза, подняв свои руки вверх, вытянувшись, как струна.
- Хорошо, - ответила Оля.
Оля встала с постели, подошла к Лизе и расстегнула бюстгальтер - тот расстёгивался спереди. Оле навстречу "выпрыгнули" 2 аккуратных розовых сосочка возбуждённой юной груди старшей сестры. Оля сразу же взяла один из них в рот и стала теребить его язычком. Лиза ахнула и обняла сестру. Оля же в свою очередь, оторвавшись от груди Лизы стала опускаться ниже, скользя языком по рёбрышкам и животику. Как только она дошла до того места, где начинались трусики, он нажав на бёдра вынудила Лизу всатть пошире. После этого Оля засунула свои пальчики под ткань трусиков со стороны лобка и поглаживая стала опускаться ниже, постихоньку прдвигаясь к промежности.
Как только пальчики оказались в плену двух складочек губ, Оля отодвинула полоку ткани в сторону и лизнула самое начало Лизкиного бутона. Лиза улыбнулась и повалилась на кровать. Оля нырнула вслед за ней и слилась с ней в поцелуе. Затем Оля потянула трусики старшей сестры вниз и освободив от них бёдра Лизы, развела их встороны максимально широко. Губки Лизиной щёлки разошлись в стороны, раскрыв розовую сочную мякоть, истекающие сладкой слизью юного организма. Это зрелище так возбудило Олю, что она неистово принялась сосать складочки лизиной вульвы. Сок молодой девчонки пьянил Олю, он пахнул так призывно, что от него начанала кружиться голова. Лизе нравилось то, что её маленькая сестра с такой жадностью сосёт её, лизкины руки непроизвольно сжимали соски её юной высокой небольшой груди.
Развернись ко мне попкой, - сказала Лиза, переводя дыхание.
Оля встала на четвереньки, не отрываясь от влагалища старшей сестры и развернулась. Девочки стали располагаться в позиции 69. Лизе нравилась идя доставлять удовольствие одновременно. К тому же губки олиной щёлки, будучи возбуждёнными отвисли и так приятно выглядели, что их непременно хотелось пососать. Они были влажными и блестели. Две капельки смазки висели на них, готовые в любую секнду оторваться и упасть на язык Лизы. Но Лиза не стала этого ждать. Она взяла Олю за бёдра и немного приятнув к себе стала теребить языком Олину щёлочку. Клитор Оли был увеличен от возбуждения и регулярно попадался Лизе на язык, что заставляло Олю шумно выдыхать и прогибать спину. А когда длинный язычок Лизы стал залезать глубоко в Олиной влагалище, та оторвалась от щёлки старшей сестры и приняла вертикальное положение, выгнувшись и отклячив попку, отчего её грудь заострилась и как будто стала смотреть в две стороны.
Пописай на меня, мне это понравилось, - вдруг сказала Лиза.
Оля закатив глаза от удовольствия (Лиза в тот момент всасывала в себя малые губки) слегка напряглась, а затем расслабилась. Дырочка её мочеиспускательного канала приоткрылась и оттуда потекла горячая струйка. Лиза в свою очередь, заострив язычок, стала ласкать эту маленькую дырочку. Оля застонала и расслабилась окончательно. Струйка становилась сильнее и наконец полилась сильным потоком. Лиза, продолжая лизать щёлочку своей 12-летней сестрёнки принялась жадно глотать жидкость сестры. Оля испытывала колоссальное удовольствие от. Казалось, что сейчас он доберётся до какого-то своеобразного "центра", коcнувшись которого, он вызывет что-то волшебное. Жёлтенькая струйка продолжала выходить наружу, влагалище Оли тоже всё просто исторгало из себя сладкую смазку, которая, ложась на язык старшей сестры изчезала в её ротике, вызывая у неё ещё более сильное возбуждение. Оля стала сопеть сильнее и тут задёргалась - потрясающий оргазм заставил каждую олину мышцу сокращаться - от этого струйка её мочи стала дрожать и выливаться из неё с постоянно меняющимся напором - то сильнее, то слабее. Оля склонилась к щёлке старшей сестры и всосала её складочки как будто благодаря старшую сестру за доставленное удовольствие.
Понравилось? - спросила Лиза.
- Конечно, - незамедлила ответить Оля и заулыбалась. - Хочешь так же?
- Хочу, но по-другому, - сказала Лиза и с этими словами встала на кровати. - Смотри. - Лиза подошла к уголку кровати, раздвинула свои ножки пошире и, массируя клитор, стала насаживаться влагалищем на один из деревянных шаров, прикрученных к спинке кровати. Сначала дело шло медленно, но затем от обилия лизиной смазки шар начал проскальзывать внутрь внутрь Лизы сначала до середин, а потом и целиком погрузился в её юное но такое эластичное влагалище.
Это очень приятно, поверь, сказала Лиза и стала тереить одной рукой сосок, а другой клитор.
Оля зачаровнно смотрела на это действо, а затем встала на колени перед старшей сестрой и стала лизать ей пальчики ног. Лиза стала дышать глубже.
Принеси свой ремень, - я хочу чтобы ты связала мне руки за спиной, - сказала Лиза. Оля вскочила, выбежала из комнаты и тотчас вернулась с ремешком.
- Как? - спросила Оля.
- У локтей, - ответила Лиза и отвела руки за спину. Оля подошла к ней со стороны спины и накинула ремешок ей на локти, затем стала подтягивать ремень и в результате лизины локти оказались сомкнуты. От этого грудь приподнялась и стала выглядеть как-то по-особенномму, Оле непременно захотелось полизать эти розовые сосочки. что она и стала делать. Лизе это определённо доставляло удовольствие - достаточно большой шар внутри, дарит какие-то странные но приятные ощущения, горячей язык младшей сестрёнки на сосках - всё это очень сильно разогревало Лизу. А когда Оля начала гладить Лизину щёлку, старшая сестра вообще стала терять дар речи - её дыхание участилось, сердце стало быться чаще и она стала делать мелкие движения вверх-вниз на шарике.
Похлопай меня по сосочкам, - попросила Лиза, и тут же сталаощущать шлепки ладошками по своией груди. Шлепки приходились точно на соски, отчего те стали на глазах увеличиваться и становится всё краснее. С каждой секундой щёлочка Лизы вырабатывала всё большее количество смазки, отчего из её промежности стали доносится хлюпающие звуки, клитор набух и стал выступать за предели лизиной щёлочки. Оля, не переставая шлёпать страшую сестру по соскам обхватила клитор губами и стала ласкать его язычком. Лиза перестала двигаться на шаре, остановилась и стала постанывать. В это время её влагалище ежесекундно напрягалось слегка усиливая давление на шар. Оля вдруг прекратила шлёпать сестру, а послюнявлив 2 пальца сначала несколько раз погладила Лизу по колечку ануса, а затем медленно ввела из внутрь лизиной попки, где начала ими двигать. Лиза ответила на этот манёвр младшей сестры сильным выдохом. Оля неотрывно ласкала клитор Лизы, как вдруг почувствовала, что колечко ануса Лизы стало сокращаться и под языком стало горячо. Оля пдняла глаза и увидела довольное выражение лица старшей сестры и её томно вздымавшуюся с красными крупными сосками грудь. Лиза, как и Оля, в момент оргазма расслабила всё, что было можно. Струйки мочи бежали по её бёдрам вниз, к пальчикам ног, некоторые затекали в ротик к Оле, которая сама была рада доставить такое же удовольствие сестре, как и та доставила ей. Лиза встала на пальчики и снялась с шара.
Неплохо я себя раработала. Надо будет тебе тоже попробовать. - улыбнулась Лиза.
- Только сзади, - сказала Оля и погрузила в свою попку два пальца, смазанные соком Лизы...